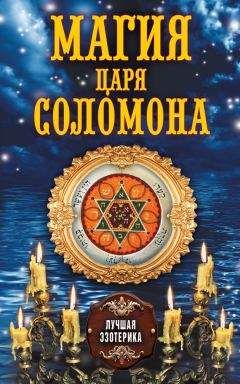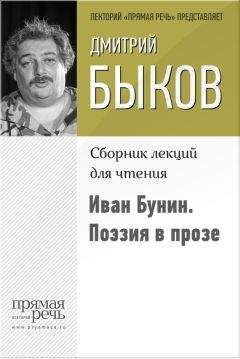Иван Бунин - Бунин в своих дневниках
Вчера ужасное письмо Савинкова.
16 октября. Мужик: "Нет, и господ нельзя тоже оставить без последствий, надо и их принять к сведению".
Проснулся в шесть. С утра темновато, точно дождь шел. Потом превосходный, хотя
*Как ни прекрасна юность,
Все же она убегает;
Кто хочет радоваться, пусть радуется,
В завтрашнем дне нет уверенности (ит.).
(Перевод С. Ошерова.)
сыро-холодный день. (Вчера, гуляя вечером. Вера обиделась, мы стали шутить – "Фома Фомич" – она плакала одна, в саду.)
Вечер поразительный. Часов в шесть уже луна как зеркало сквозь голый сад (если стоять на парадном крыльце – сквозь аллею, даже ближе к сараю), и еще заря на западе, розово
оранжевый след ее – длинный – от завода до Колонтаевки. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры. Луна ходит очень высоко, как всегда в октябре, и как всегда в октябре – несколько ночей полная. Сейчас гуляли, зашли с Верой в палисадник, смотрели на тени в нем, на четкость людской, крыша которой кажется черной почти,- вспомнился Цейлон даже.
Про политику и не пишу! Изболел. Главное – этот мерзавец, которому аплодируют даже кадеты.
17 октября. Дни похожи по погоде один на другой – дивная погода. Ни единого облачка ни днем, ни ночью. Все время с вечера – луна и полоса красноватая на закате. Пришла Вера Семеновна с Измалкова. Я отвозил ее в школу. Смотрел с дороги, уже близко от школы – вдали на реке что-то вроде коричневого острова камышей, дальше – необыкновенно прелестная синь речной заводи. По дороге отпотевшая грязь. Ночью подмораживает, морозная роса, тугая земля.
Вечером Вл. Сем. провожал до кладбища Надю.- Письмо от Шмелева.
18 октября. Та же погода. Чувствую себя, дай бог не сглазить, все время хорошо, но пустота, бездарность – на редкость.
Пять с половиною часов вечера. Зажег лампу. В окне горизонт – смуглость желтая, красноватая (смуглая, темная желтизна?), переходящая в серо-зеленое небо,-выше синее – сине-зеленое, на котором прекрасны ветки деревьев палисадника – голого тополя и сосны. Краски чистейшие. Пятнадцать минут тому назад солнце уже село, но еще светло было, сад коричневый.
Прочел Лескова "На краю света". Страшно длинно, многословно, но главное место рассказа – очень хорошо! Своеобразный, сильный человек!
20 октября. Девять с половиною часов вечера. Прочел статью из "Русской мысли" какой-то Глаголевой: "Раб (Бенедиктов), Эллин (Щербина), Жрец (Фет)". Наивная дурочка.
Критики говорят о поэте только то, что он им сам надолбит.
"Любовь – высшее приближение к духовности" – правда ли это?
Вчера прошел слух (от Лиды), что хотят громить Бахтеяровых. Стал собирать корзину в Москву. Потом поехал с Верой в Измалково отправлять. Погода дивная. Кричал на Веру дорогой – нехорошо! Коля рассказывал, как солдат Федька Кузнецов разговаривал с офицерами, что охраняют бахтеяровское имение,- на "ты" и т. д.
Когда вчера Вера ходила на почту в Измалково, я сидел ждал, всходила раскаленная луна, возле нее небо мрачное, темное. Нынче ездили с Колей в Предтечево -. говорить по телефону в Елец с комиссаром о въезде в Москву (наш телефон все портят). День поразительный. Дали на юге в светлом тумане (нет, не туман). Были в потребиловке (мерзко!), в волости. Воззвания правительства на стенах. О, как дико, как не связано с жизнью и бесполезно!
Что за цвета были леса, когда мы возвращались! Щербачевка (дубовая) светло-коричневая, поляны (березы) еще есть грязное золото, Скородное – не умею определить.
Десять часов вечера. Густой туман – вот неожиданно! Не выхожу, что-то опять горло.
В Предтечеве возле потребиловки встреча с девицами Ильиными. Леля сказала, что на "Среде" Зилов читал на меня пародию. Гадина!
Читаю "Волхонскую барышню" Эртеля. Плохо. Мужицкий язык по частностям верен, но в общем построен литературно, лживо. И потом, эта тележка, ныряющая по грязи, лукавая пристяжная, и заспанный мальчик, ковыряющий в носу… Никогда не скажет: "надел пальто", а всегда – "облачившись в пальто".
21 октября. Не выходил – немного горло. День сперва серый, потом с солнцем. Возился весь день – укладывался. Завтра Казанская, могут напиться вся деревня варит самогонку – все может быть. Отвратительное, унизительное положение, жутко.
В языке и умах мужиков все спуталось.- Никто, впрочем, не верит в долготу этого "демократического рая".
В 1905 году поэты все писали стихи про кузнецов.
Читал отрывки из Ницше – как его обворовывают Андреев, Бальмонт и т. д. Рассказ Чулкова "Дама со змеей". Мерзкая смесь Гамсуна,132 Чехова и собственной глупости и бездарности. Как Сибирь, так "паузка", "пали" и т. д., еще "заимка"…
22 октября. Все бело от изморози. Чудеснейшее тихое солнечное утро. Звон.
"Забота"-Капри, 24 января-б февраля 1913 г.
Это ли не "Петлистые уши". ‹…›
Мужики и теперь твердят, что весь хлеб "везут" (кто? Неизвестно) немцам.
Радость жизни убита войной, революцией.
Как гадки Пшибышевский,133 Альтенберг!134
Луна – зеркало солнца. Сердцевина мака черная.
Жизнь Фофанова135 – "сюжет для небольшого рассказа".
Одиннадцать часов утра. Коля напевает под пианино:
"Жил был в Фуле…"
Нет, в людях все-таки много прекрасного!
– -
30 октября. Москва, Поварская, 26. Проснулся в восемь – тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко – удар из орудия. Минут через десять снова. Потом щелканье кнута – выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту – раз пять, десять. У Юлия тоже.
Горький, оказывается, уже давно (должно быть, с неделю) в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в "Летучей мыши",- я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной136, по телефону. Катерина Павловна – "обе стороны ждут подкреплений". Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить и т. д.
‹…›.
Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль – привез двух раненых. Одного я видел,- как его выносили – как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу (Вере нынче опять звонила) – она гласная, верно, идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета чтобы большевики сдали оружие, сдались. Кроме того, идут будто бы разговоры между представителями всех соц‹иалистических› партий вкупе с большевиками, чтобы помириться на однородном социал‹истическом› кабинете. Если это состоится, значит, большевики победили. Отчаяние! Все они одно. И тогда снова вот-вот скандалы, война и т. д. Выхода нет! Чуть не весь народ за "социальную революцию".
22-го – во втором часу пленный из Предтечева, верхом – громят Глотово. Я ждал Казанской, многое убрал,- самогонка, праздник и слух о 20-м октября, о выступлении большевиков – все предвещало, что многое может быть. Через час пьяный мужик из Предтечева: "Там все бьют, там громят, мельницу Селезневскую разнесли… Уезжайте скорее!" Цель – разносит слухи, оповещает всех, хотя прикидывается возмущенным, и кроме того всюду берет на водку. Мой рубль швырнул – "я тебе сам пять целковых дам!". Я заорал, он струсил, взял рубль. С двух с половиною дня до трех ночи я убирался, заснул ‹в› два часа, в пять встал, в семь выехали – я, Коля, Вера. Мишка и Антон сзади на телеге с вещами. Туман, дорога вся в ухабах из застывшей грязи, лошади ужасные. До большой дороги была мука. Под Становой остановились, закусывали, баб тридцать из Кириловки, идут в Становую что-то получать (солдатки, кажется). Завязался разговор. Я выпил – иначе такой глупости не сделал бы. Злоба – "вы, буржуи, капиталисты, войну затеяли". Да, началось с насмешки над нами: "А плохо вам теперь!" Я сказал – "погоди, через месяц и вам будет плохо".- "А! вот как! Значит, ты знаешь! Почему же это нам будет плохо? Говори!" Я стал говорить как елецкий мещанин (плюс мой полушубок и весь наш вид жалкий). Подошел кто-то, что-то "товарищеское", хотя мужик (молодой)… (Ох! ужасный удар!) (Сейчас пять дня.) (Опять!) "Что? Плохо? Вы почему ж это знаете?" (Очень строго.)
О, позор, о, жуткое чувство! (Опять удар.) Я вильнул – "через месяц Учредительное собрание" – собрал вожжи и поскорее ехать. Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком – тяжко! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко. Вечером (опять удар!) у нас гости, я говорил лишнее,- выпил. 24-е пробыли в Ельце. Отовсюду слухи о погромах имений. Вл‹адимира› Сем‹еновича› все Анненское разгромили. Жгут хлеб, скотину, свиней жарят и пьют самогонку. (Опять!) У Ростовцева всем павлинам голову свернули. (Опять!) 25-го выехали вместе с Б. П. Орловым. В вагоне в проходе солдаты, солдат из Ламского весело и хорошо рассказывал, как Голицыны с тремя-четырьмя ингушами и попом (опять!) отбивались от мужиков и солдат. Голицына П. А. ранили. 26-го на Курском вокзале узнали, что в Москве готовят бинты, кареты скорой помощи и т. д.- будет бой с большевиками. Два извозчика сорок рублей. 27-го был в городе – везде равнодушие – "а, вздор, это уже давно говорят". Какие-то два солдата мне (опять!) сказали, что начнется часов с семи. В пять – к Телешовым. Мимо трамвая – поп, народ, несли чудотворную икону. На углу Пречистенки бабы – "большевики стреляли в икону". От Телешовых благополучно дошли, хотя казалось, по городу уже шла стрельба. 28-го мы стрельбы почти не слыхали, выходили.