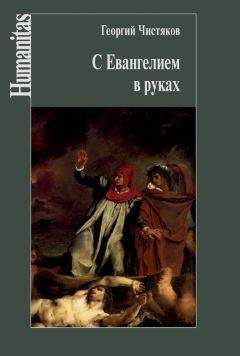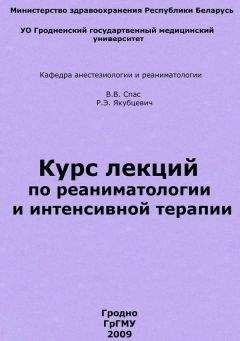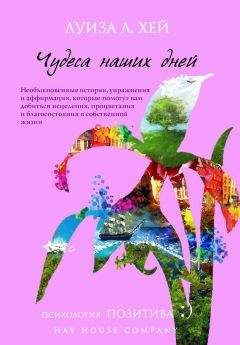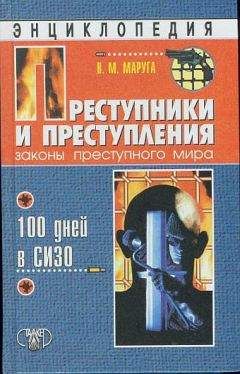Георгий Чистяков - Размышления с Евангелием в руках
Шестой дар христианского Запада России, и в частности Москве, — доктор Федор Петрович Гааз. Скончавшийся 16 августа 1853 года Фридрих Йозеф Гааз жил в Москве с 1806 года. Сначала он был просто одним из наиболее известных, образованных и пользующихся особой популярностью, а поэтому одним из самых состоятельных и даже богатых врачей города, но со временем стал главным другом и защитником всех отверженных, как арестантов, так и просто бездомных и чернорабочих. В 1825-1826 годах он был штадт-физикусом, то есть главным врачом города, затем секретарем Комитета попечительства о тюрьмах, сначала работал в Старо-Екатерининской больнице для чернорабочих, затем в 1844 году добился открытия новой Полицейской больницы для бесприютных у Покровских ворот и превратил ее в убежище для всех бесприютных, для пришлых крестьян, приезжих бедняков, безработных нищих, для всех, кого не принимали в городские больницы. С 1844 по 1853 год через нее прошло 30 тысяч больных бедняков, из них 21 тысяча была вылечена. Рабочий день Федора Петровича длился круглые сутки, жил он при больнице и все личные сбережения тратил на лекарства, на еду и на одежду для бедняков и арестантов. В романе «Идиот» Ф.М. Достоевский пишет: «В Москве жил один старик, был «генерал», то есть действительный статский советник с немецким именем; он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам, каждая пересыльная партия в Сибирь знала, что ее посетит «старичок генерал». Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно… говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца». В 1891 году профессор Новицкий, директор клиник Московского университета, рассказывал, как он принял однажды в больницу крестьянскую девочку. «Одиннадцатилетняя мученица эта поражена была редким и жестоким болезненным процессом, известным под именем водяного рака, который в течение 4-5 дней уничтожил целую половину ее лица, вместе со скелетом носа и одним глазом… случай этот отличался еще тем, что разрушенные омертвением ткани распространяли такое зловоние, подобного которому я не обонял затем в течение моей почти 40-летней врачебной деятельности. Ни врачи, ни фельдшера, ни прислуга, ни даже находившаяся при больной девочке и нежно любившая ее мать не могли долго оставаться не только у постели, но даже в комнате, где лежала несчастная страдалица. Один Федор Петрович, приведенный мною к больной девочке, пробыл при ней более трех часов кряду, целуя и благословляя. Такие посещения повторялись и в следующие дни, а на третий — девочка скончалась».
Этот фанатик добра, крайне раздражавший власти города и безгранично любимый простыми людьми, был глубоко верующим и церковным человеком, прихожанином католического храма св. Людовика на Малой Лубянке, но при этом именно он добился постройки храма Св. Троицы на Воробьевых горах близ пересыльной тюрьмы, покупал на свои деньги Евангелия на славянском языке (русского перевода тогда еще не было) и молитвословы для бедняков и заключенных, дружил с православными священниками, пел в церковном хоре и постоянно молился в православных храмах. Когда д-р Гааз скончался, на похороны его пришли тысячи людей, газеты писали о небывалых похоронах, а святитель Филарет, бывший тогда митрополитом Московским, разрешил служить по покойному панихиды в православных храмах. В Москве первой половины XIX века он сыграл роль не меньшую, чем св. о. Котголенго в Турине. Не случайно же во времена советской власти о нем даже упоминать было запрещено. Оставаясь католиком, но живя среди православных, он стал настоящим народным святым для русского народа. И, надо полагать, не случайно могила его находится на Введенском, или Немецком, кладбище, именно там, где похоронены такие великие православные подвижники, как о. Алексий Мечев, матушка Фамарь и старец Зосима-Захария. Удивительно, что одновременно с доктором Гаазом в католической Италии прославился как народный святой Сильвестр Щедрин, замечательный художник-пейзажист, известный по своим картинам каждому российскому школьнику. Оставаясь православным, но живя в Сорренто среди католиков, опекая бедняков и бездомных и даря им свою любовь и участие, он и после смерти продолжал почитаться среди местного населения именно как человек Божий. С. Щедрин умер в 1830 году и был похоронен в Сорренто в католическом монастыре Сан-Винченцо. Еще в начале XX века его могила находилась в этом храме, но затем была перенесена на городское кладбище, поскольку монастырь был упразднен и превращен в частное владение. Примерно через 20 лет после смерти художника Н.А. Рамазанов, будучи в Сорренто, слышал от старого рыбака рассказ о том, как тот «помогал бедным, больным, несчастным, содержал часто целые семейства, отдавая просящим все, что имел» («Москвитянин», 1852, N 3, кн. 1, февраль, с. 237). Думается, что и доктор Гааз и Сильвестр Щедрин были призваны к своей миссии не случайно. Не этот ли путь, в котором нет ни тени прозелитизма или неуважения одной Церкви к другой, а есть только любовь, ведет нас за Христом в будущее, в XXI век и в новое тысячелетие.
Ф.П. Гааз еще в XIX веке показал нам тот путь деятельного христианства, по которому идут мать Тереза, малые сестры брата Шарля де Фуко и все те, кто реализуют свою веру в трудах среди несчастных, больных и обездоленных. Образ христианства действия — вот еще один из даров христианского Запада православному Востоку, дар, нами принятый в первый раз из рук доктора Гааза, затем из рук немки и по рождению лютеранки — святой Елизаветы Феодоровны и теперь принимаемый из рук матери Терезы и многих ее сестер.
* * *
Чтобы оторвать Запад от Востока или, наоборот, изолировать православие от многообразных контактов с миром христианского Запада, нужно прежде всего отказаться от истории, от тех ее двух тысячелетий, в течение которых мы, пусть и не без проблем, но жили на одной земле, веря в одного Бога, следуя за одним Иисусом, читая одну Библию и молясь одной теплой заступнице мира холодного Пресвятой Деве Марии. Для этого надо отказаться и от опыта десятков поколений живых людей, включая славянских первоучителей Кирилла и Мефодия и многих наших святых, которые, сохраняя безупречную верность той византийско-славянской традиции, в которой были воспитаны и глубоко укоренены, просто не боялись опыта своих братьев и сестер, живших на Западе. Наверное, это не только не нужно (не говоря уже о том, что это вредно и опасно, ибо всякое насилие над историей и опасно, и вредно), но просто бессмысленно.
День великой радости (16 мая 1996 года)
Не мне решать, кто был более не прав в эстонском конфликте, Москва или Константинополь. В Эстонии я в последний раз был весной 1983 года и о проблемах, приведших к церковным разногласиям, знаю только понаслышке. Понимаю, что виноваты в нем мы все, ибо конфликт возникает не там, где есть проблемы (проблемы сами по себе явление абсолютно нормальное, и вообще жизни без проблем не бывает!), а там, где оскудевает любовь. Высказываться по эстонскому вопросу не берусь и не буду, но не могу не сказать, что за время, прошедшее с начала Великого поста, когда было прервано евхаристическое общение между Москвой и Константинополем, и вплоть до 16 мая я понял, что называется, на собственной шкуре, как страшно и как губительно разделение в Церкви.
Ужас разрыва
Митрополит Антоний рассказал в своей пасхальной передаче на ВВС о православном приходе в Оксфорде, где собраны вместе верующие из Константинопольской, Московской и Сербской юрисдикций и даже антиминс подписан тремя епископами — они не могли праздновать Пасху вместе, не могли причащаться из одной чаши. Владыка митрополит назвал это ужасом.
В Москве, казалось бы, нет приходов Вселенской патриархии, и поэтому на первый взгляд разделение это не должно было ощущаться. Но… мы все-таки не только русские, но и православные люди. Как финны, и греки, и христиане из других народов, окормляющиеся под омофором Вселенского патриарха. И мы после разрыва не можем уже причащаться вместе. Не можем причащаться в храме св. Александра Невского на rue Dam или в Sente Genevibve des fiois. В тех храмах, где служили митрополит Евлогий и епископ Кассиан (Безобразов), оо. Н. Афанасьев, А. Князев и Киприан (Керн). Где пел Ф.И. Шаляпин и молился Б.К. Зайцев. В храме, близ которого похоронены И.А. Бунин, А. Тарковский, Виктор Некрасов и сотни других бесконечно дорогих нам наших соотечественников. Где отпевали моего дядю Бориса, где молилась мать Мария и служил о. Димитрий Клепинин.
Это не просто больно. Это нестерпимо. Осознаешь это и сразу понимаешь, что такое Церковь. «Да будут все едино». Нас, оставшихся в революцию в Москве, и моего дядю, ставшего парижским таксистом, всех нас в России и всех тех, кто оказался во Франции, не соединяло ничто, ни небо, ни страна, ни телефон, по которому нельзя было звонить, ни письма, которые не рекомендовалось писать и которые все равно не доходили, ни граница, бывшая «на замке». Нас разъединял железный занавес, а соединяла только евхаристия. А теперь?