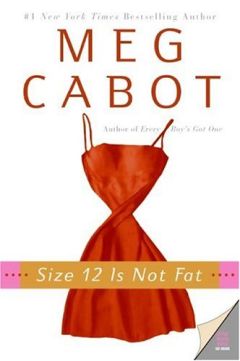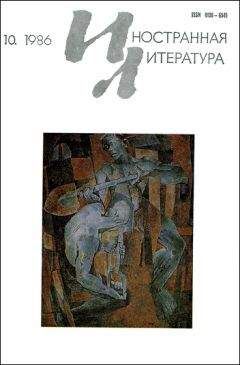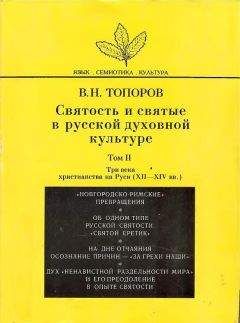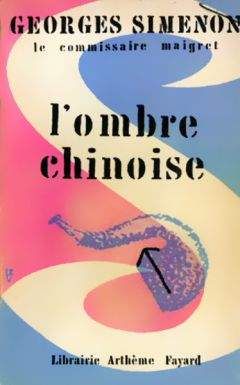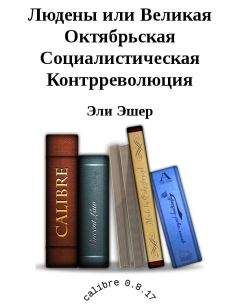Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.
Наконец, Павел Федорович Смердяков завершает круг: Павел Федорович есть сын Федора Павловича; от сочетания Карамазовщины с безумием Лизаветы. Карамазовская воля к жизни должна поглотить самое себя; она должна как бы вернуться к своему исходному ту: голая жизнь есть бессмысленная и самопожирающая себя жизнь, жизнь отцеубийцы. Смердяков возвращает Карамазовщину туда, откуда она пришла, — в "прародимый хаос" небытия.
Что же это такое? Наследственность? Психологическая и физиологическая мотивировка? Конечно, нет. Мысле–образы Достоевского развивают целую сеть онтологических возможностей, кроющихся в глубине русского самосознания современности. Все эти возможности для него кровно связаны со всем метафизическим прошлым России и мира, со всей системой […] современных противоречий и со всем грядущим, воплотить которое призван русский народ. Если угодно это называть наследственностью, то предмет таких исследований, то следы, по которым таким способом разыскивается путь, есть уже во всяком случае предмет всей духовной родословной человечества и путь всей духовной его истории, а не путь физического только "естественного" его размножения. Не размножение интересует Достоевского, а развитие; не множественность и количество, — а единство человеческого рода и сверхчеловеческое его "достоинство".
Так, постепенно перед нами выступила и сущность самой идеи по Достоевскому, и универсальная ее значимость для всего мира явлений; но обозначилась также и господствующая в этом универсальном мире идей иерархичность и — то непрерывное единство, которое через историю духа связует все отдельные индивидуальные идеи, какой бы оригинальностью они не отличались» (56–58).
Этот фрагмент, как и многочисленные другие высказывания исследователя, не прибегая к понятию «софийности», весьма близко подходят к тому, что составляет суть софийности. Две проблемы следует выделить особо, потому что, важнейшие в системе Достоевского, они одновременно характеризуют и тайный нерв самой софийности: сознание–самосознание–самопознание и свободу (можно напомнить, что Бердяев упрекал Булгакова за то, что его софиологическое учение не соотнесено должным образом с проблематикой свободы). Сами эти проблемы тесно связаны друг с Другом. Связь софийности с сознанием, самосознанием, самой перспективой постоянного самуглубляющегося движения, принципом авторефлексивности очевидна: о ней много говорилось выше, как о тайном нерве всей проблемы софийности, во всяком случае в определенный период развития софийного учения, как, вероятно, об основной характеристике Софии, объясняющей и многие другие ее черты, и это освобождает автора этих слов от необходимости возвращения к этому свойству ее. Здесь достаточно пунктирно обозначить некоторые положения по этому вопросу из книги, чтобы — обратным порядком — понять и оценить и софийность Достоевского и через нее — софийность как таковую, как принцип.
«Не представляет никакого сомнения, — пишет Штейнберг, — что проблема свободы может возникнуть исключительно в сфере сознания: только тогда, когда не только нечто есть, но есть и вопрос о том, что есть то, что есть, т. е. только в сфере сознания бытия и бытия как бытия осознанного может возникнуть вопрос и о том, быть ли бытию или ему не быть. Но этот вопрос и есть самое точное выражение всей проблемы свободы вообще и в особенности той, которая формулирована […] в системе Достоевского, потому что свобода, поистине, может быть только свободой самосознания, независимостью самосознания от всего, что вне его, и, прежде всего, она означает сознательный выбора между утверждением и отрицанием жизни, между ее приятием и неприятием. […] Изначальность сознания — в порождении бытием проблемы бытия. Проблема же бытия есть в одно и то же время корень и теоретического, и практического вопрошания и сознавания. […] Ясно, что оба эти вопроса […] коренятся в природе самого сознания как самосознания: только потому, что, сознавая бытие, мы в то же время сознаем сознание бытия, тем самым полагая наряду с бытием как предметом сознания, еще и само сознание как собственный его предмет, только потому возникает перед нами теоретическая, якобы, проблема сравнения реального достоинства этих двух столь разнородных объектов сознания; но вместе с тем самосознание как сознание сознания при обращении к нему само превращается в предмет сознавания и т. д., и т. д. — без конца, и это, эта бесконечность сознания — его само обнаруживает как творческую деятельность, как бы из ничего создающую свое собственное содержание; отсюда и рождается основной практический вопрос: быть ли этой деятельности и ее порождениям, вплоть до самого бессознательного бытия, этого первого предмета и последнего назначения всей деятельности сознания, — или же не быть?
Вопрос о бытии, бытие бытия есть сознание бытия; осознание же бытия есть одновременное движение вглубь и бытия самого сознания и сознания, как бы внешнего по отношению к нему, бытия. Но движение это осознает себя как ничем в себе самом не ограниченное, как беспредельное, т. е. как движение свободное и зависимое лишь от себя самого. Так возникает проблема свободы; так эту проблему понимает Достоевский».
Очевидно, именно такова ситуация и в связи с Софией: это само себя сознающее движение, в самом деле, ничем не ограничено и беспредельно, потому что «податливость» делает Софию идеальной восприемницей–медиатором: она настолько пассивна, что ничто в ней не может стать упором, препятствием, помехой при восприятии божественных энергий; ничто в ней, Софии, не препятствует восприятию, потому что она ко всему готова и всему, исходящему от Бога, открыта, а готова она, потому что ее открытость абсолютна, у нее нет выбора, и в этих условиях открытость совпадает с готовностью, более того, они неразличимы: готовность и есть открытость. А это, собственно говоря, и обеспечивает то свободное движение, которое зависит от самого себя, и эта самозависимость — в этой ситуации — нисколько не «возмущается» зависимостью от Бога (впрочем, и само слово «зависимость» в этом случае несостоятельно: абсолютная проницаемость Софии делает. беспредметным разговор о зависимостях, влияниях, причинно–следственных отношениях в том же плане, в каком бессмысленно говорить о законе тяготения применительно к тому, что не имеет веса).
Эти вопросы взаимосвязи свободы и самосознания мучили и «человека из подполья» и «смешного человека» из соответствующего сна. Последний даже осмелился высказать «последнее слово», «истину», не договоренное до конца первым.
«Что же это за истина? — вопрошает исследователь. — Она заключается не в чем ином, как сознательном отвержении высшего достижения современного сознания, сводящегося к тому, что "сознание жизни выше жизни" [слова Достоевского. — В. Т.]. Но именно поэтому, именно потому, что и эта отвергающая самосознание и его безграничную свободу как последнюю ценность истина есть — истина и, следовательно, плод сознания и его внутреннее самоопределение, именно поэтому и вся история человечества, приведшая к самосознанию как к безграничной свободе и как к высшей самоценности, не только не бессмысленна, но наоборот, только так приобретает она сугубый смысл и полновесное оправдание. Человек из подполья готов был предположить, хотя и не мог с этим примириться, что из глубины самосознания "действительно существующее" должно казаться "беспрерывным периодическим нулем", сама же безграничная свобода сознания должна превратиться в "подмен, подтасовку, шулерство" […]; с ним в свое время соглашался и его "смешной" продолжатель: "Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что при мне ничего не было". "Мало–помалу я убедился, что и никогда ничего не будет". […] Но он восстал против этой зловещей "религии с культом небытия" и увидел лицом к лицу ту истину, в свете которой осмыслились и муки самосознания: они оказались муками рождения новой истины. Тогда–то и разъяснилось, почему "страдание — причина сознания".
Вся эта проблематика приобретает особое значение для народа, вступающего впервые на исторический путь культурного делания. Здесь его ждут великие соблазны: "мудрый змий, искушенный разум […] коварно внушает красе природной и невинной отведать и вкусить от прекрасных плодов, созревших не на родной земле и в чуждом раю. Так ныне снова искушенный разум Запада соблазняет не мудрствующую лукаво Софию [contradictio in adjecto! — В. Т.], земную душу России, историческое бессмертие приобрести не путем "оберегания и возделывания" земли в поте собственного своего лица, а путем легкого стяжания и беспечного заимствования. Но так обретается лишь первое падение — падение в глубину собственного сознания, а там — не путь прямой и неминуемый, а распутье. […] Это и есть роковой путь через чистилище истории. Нельзя познавать добро и зло, оставаясь в раю и в райском неведении […]: лишь утратив свою невинность и свое бесплодное бессмертие, люди и народы удостаиваются бессмертия истинного и живого, уже за райскими вратами, но все же через вкушение от древа жизни […]. Злой соблазнитель не солгал, вернее, его ложь не могла не обернуться правдой"».