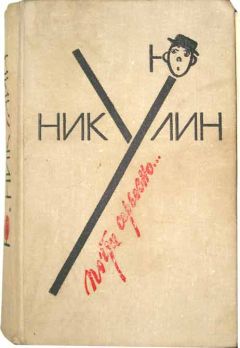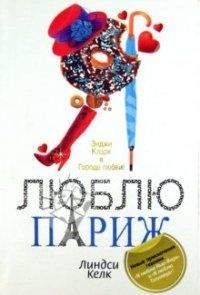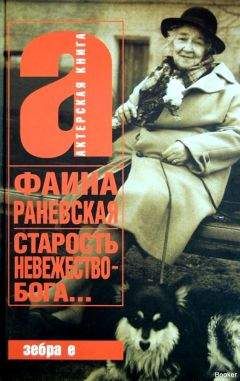Сергей Фомин - Пастырь Добрый
269
См. прим.
270
Анна Павловна Всехсвятская — матушка о. Константина. В семье было три дочери и четыре сына.
271
Александра Константиновна Всехсвятская.
272
Серафиму Ильиничну — келейницу. См. прим.
273
Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле был основан прп. Евфросинией Московской (1353 — 7.7.1407), в миру княгиней Евдокией — супругой блгв. Вел. Кн. Димитрия Иоанновича. Обитель почиталась Царской, и ее игумений обладали правом входить к Государыне Императрице без доклада. Игумения Евгения (Екатерина Алексеевна Виноградова, 1837 — ?), о которой идет речь в воспоминаниях, была последней (перед закрытием) настоятельницей этого монастыря (с 26.4.1893). Постриженица (15.11.1871) Борнео–Глебского Аносина женского монастыря (см. прим. 380).
274
См. прим. к письму № 18.
275
Евфросиния Николаевна Мечева. См. прим.
276
В Москве лишь единичные приходы сохранили верность Патриарху Тихону, поминая его на ектениях и Великом Входе. В числе их были «Маросейка» и Данилов монастырь.
277
«С официальной точки зрения легальны были только группы из двадцати мирян, снимавшие у властей церковные помещения. В таких условиях легализация фактически сводилась к регистрации; Церковь, как иерархическая организация, не получила в Советском Союзе статуса юридического лица. Согласно правительственному постановлению от 12 июня 1922 г., функционирование религиозных объединений считалось легальным только при условии их регистрации в местных государственных органах. Это узаконивало преследования незарегистрированных религиозных групп и их руководителей, как духовенства, так и мирян, и позволяло произвольно определять условия, требуемые для регистрации. НКВД имел право высылать на три года без суда «лиц, присутствие которых в данном районе может считаться опасным с точки зрения защиты революционного общественного порядка», что позволяло избавляться от неугодного духовенства, в особенности от правящих епископов. Регистрации подлежали все лица, обслуживающие данный храм, приход или епархию; таким образом правительство могло контролировать назначение духовенства, отказывая в регистрации тому или иному епископу. Патриаршая Церковь не признавала такие условия регистрации, правительство же отказывалось легализовать Церковь на каких–либо других условиях» (Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М. «Республика». 1995. С.114—115). Современник вспоминал: Очень тяжелое время переживаем. ВЦУ (обновленческое — С. Ф.) разослало по всем церквам анкетные листки, на которые должны отвечать члены приходских советов и священники. Между прочим, ответ священнику поставлен ребром: признает ли он ВЦУ. Засим вменяется в обязанность не принимать и не допускать к служению в церкви епископов, не признающих ВЦУ, и требуется отчисление крупной суммы на расходы по созыву Собора. Казалось бы, что и не нужно принимать этих бумаг и расписываться в их получении, но на это почти никто не дерзнул, и несчастное запуганное духовенство частью подписывается без обиняков, частью измышляет компромиссные, а иногда и нелепые ответы, и, главное — совершенно не сознает важности совершаемого им шага. Церковное сознание до того запуталось, что священники не разумеют последствий для себя от общения с отлученными иерархами и иереями. Епископы наши все перешли в «живую» церковь (так казалось автору письма — С. Ф.). У нас в приходе тяжелая борьба со священником, который ищет компромиссного решения. Вместе с тем в газетах уже напечатана программа собора, который созывает Антонин. Главной, основной задачей его является преобразование Церкви в согласии с настоящим государственным устройством и осуждение прежнего строя и его управления как явно контрреволюционных. Обещается сохранение прежнего обряда и догматов, но открывается возможность «свободного творчества». О том, что Антонин и Красницкий отлучены Вениамином, многие просто забыли, или хотят забыть, и не разъясняют прихожанам, которые в большинстве боятся одного — что к Пасхе их церковь закроют. Антонин совершенно изменил тактику: теперь он ничего не меняет в богослужебном обряде и с необыкновенной помпой совершает службу в Храме Спасителя. Н. Н. нечаянно попал туда и был в восхищении: «Объясните мне, пожалуйста, откуда вы взяли, что он еретик?» И не он один так рассуждает. К беззаконным действиям и революционным ухваткам так привыкли, что и на самочинную власть в Церкви так смотрят. Поминают Петра Великого и его расправу с Патриархом. К сожалению, исторические примеры могут действительно давать оружие, если спор становится на каноническую почву. А принципиальная сторона всегда, во всех вопросах, как общественных и государственных, а теперь и церковных, очень плохо усваивается и считается как бы второстепенной. Наш батюшка к этой стороне вопроса относится как к личной идеологии, которая для него необязательна, неавторитетна: «Я с вашей идеологией не согласен, нужно прежде всего сохранить храм». Тут вопрос попадает на тему о благодати: может ли такой священник совершать Таинство? Н. в прошлое воскресенье отправилась в церковь, исповедовалась и приобщилась у «подписавшегося священника», и вернулась такая радостная и довольная: неужели же она не причастилась? Это вопрос самый трудный и тяжелый: мы легко можем очутиться без церкви и без пастырей. Если помрешь, как хоронить без отпевания в церкви? — и т. п. Все это невыносимо тяжело, и — отрадно, когда встречаешь таких людей, как X. Он считает, что все к лучшему. Больше так жить было нельзя: «Нужно, чтобы вся гниль наружу вылезла; ведь вы сами видите, жить больше нечем». Да, но это сознание ужасно. Прежде, когда идешь ко всенощной и вся Москва гудит от благовеста — на душе радостно и тепло, а теперь от этого звона ком в горле становится. Были большие разговоры о снятии колоколов, мы ужаснулись от мысли остаться на Пасху без звона, а теперь это было бы нам к лицу. Поймите этот ужас: большая часть народа, сама того не зная, уйдет в раскол и порвет с преданием Отцов совершенно безсознательно, а другая — православная — останется без храмов, почти без священников и почти без Таинств… Прот. Кирилл Зайцев. Время Святителя Тихона. М. Издательство имени Святителя Игнатия Ставропольского. 1996. С.132—133. В том же 1922 г. нужно было решить и еще одну проблему: : Голод в Поволжье и в южной полосе России вызвал правительственный декрет об изъятии церковных ценностей. Церковные круги были встревожены. Возникал вопрос — допустимо ли это с церковной точки зрения. В батюшкиной (о. Алексия Мечева — С. Ф.) комнате происходило обсуждение этого вопроса в присутствии о. П. Флоренского и одного из духовных детей Батюшки. Батюшка лежал в постели, как это было теперь большей частью. Пересмотрены были исторические факты, аналогичные этому, примеры и слова Свв. Отцов Церкви, касавшиеся неприкосновенности церковного имущества, с одной стороны, и возможности пользоваться им в благотворительных целях, с другой. Во время этого совещания о. Сергий несколько раз открывал дверь, пытаясь войти, но каждый раз слышал строгий голос Батюшки: «Сережа, закрой дверь!..» Пришли к тому, что можно выдать все, но надо постараться выкупить церковные сосуды как предметы, имеющие непосредственное отношение к совершению таинства Евхаристии. По закону дозволено было выкупить то, что было желательно для данного храма. Вещи выкупались по весу на драгоценный металл. Во время проведения этой меры в жизнь бывали в некоторых храмах столкновения с исполнителями декрета, проявляющими иногда резкость и неуважение к чувствам верующего человека. В храм Николы–Кленники комиссия по изъятию ценностей прибыла весной 1922 года, во второй половине дня. Дорого стоил этот день батюшке о. Алексею. Помимо личных переживаний он, знавший горячность о. Сергия, присутствовавшего вместе с ним в храме, все время старался успокоить его, уберечь от каких бы то ни было проявлений возмущения и резких слов, которые при сложившихся обстоятельствах могли только обострить и усложнить и без того трудный момент. Когда все было закончено и грузовая машина с заколоченными ящиками выехала со двора, Батюшка направился домой. Во дворе его ожидали несколько сестер и пошли проводить до квартиры. Измученный физически и нравственно, он едва шел, по–прежнему был ласков и даже как будто покоен, по–прежнему благословлял и подбадривал провожавших, как будто ничего не случилось. Жизнеописание… С.139.
278
См. прим. и прим.
279
Из архиереев, приходивших на исповедь к о. Алексию, можно назвать епископа Германа (Ряшенцева). См. прим.