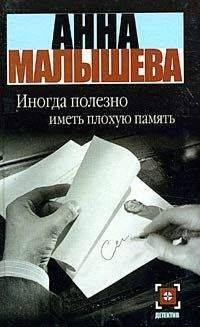Георгий Флоровский - Избранные богословские статьи
Перевод с английского Н. Ерофеевой
Rt. Revd. G. Florovsky. Foreword // Arhim. Sophrony. The Undistorted Image: Staretz Silouan (1866–1938). L. The Faith Press, 1958. — Pp. 5–6. Это издание — первый краткий вариант той книги, которая ныне известна под заглавием «Старец Силуан».
ТОМЛЕНИЕ ДУХА
О книге о. П. Флоренского трудно говорить, — это значит говорить об авторе и о его личном религиозном пути. Книга о. П. Флоренского нарочито и намеренно субъективна. Не случайно избрал он для нее полубиографическую форму дружеской переписки. Это не только литературный прием. Такова тональность его духовного типа, — о. Флоренскому так подходит богословствовать в письмах к другу… Слишком силен у него пафос интимности, пафос психологического эзотеризма [34], — слишком сильна потребность в личных отношениях и связях. Он много говорит о церковности и соборности, но именно соборности всего меньше в его книге. В его размышлениях всегда чувствуется одиночество, уединенность. Из этого томительного одиночества он ищет исхода в дружбе… И полнота соборности разрешается для него в множественность интимных дружественных пар, и двуединство личной дружбы психологически заменяет для него соборность. Он живет в каком–то укромном уголке и хочет так жить, в каком–то эстетическом затворе. Он уходит с трагических распутий жизни, укрывается в тесную, но уютную келию. И убирает ее душистыми и пряными цветами… Флоренский весь во времени, он живет в каком–то разорванном мире, в непреодолимом, «асиндетон» [35]. И время для него — тоска, но не подвиг, — время тянущееся и тянущее, вытягивающее и томящее душу. Флоренскому понятен динамизм, но непонятна история. Для него непонятно конкретное и творческое историческое время, в котором не только переживается, но и совершается нечто. И в этом разгадка его субъективизма. Он не чувствует ритма церковной истории. Флоренского упрекали в пристрастии к теологуменам [36], к частным богословским мнениям. И действительно, к теологуменам у него больше вкуса, чем к догматам. Точно догматы слишком громки для него, и он предпочитает неясный шепот личного мнения… И в книге своей о. Флоренский говорит прежде всего о переживаниях, не только о личном опыте, но именно о личном в опыте. Правда, он смиряется и отрекается от собственного мнения; он хотел бы ничего не говорить от себя, ничего своего, но только передавать и пересказывать общее, всецерковное. Однако в действительности он все время говорит от себя и о себе. Он субъективен и тогда, когда хочет быть объективным. Со всей силой это сказывается в его отношении к церковному преданию. Он сам сознается, что выбирает или подбирает свои ссылки и примеры. К церковному прошлому он подходит не как историк, но как археолог. И оно разбивается для него на множество памятников древности и старины, среди которых он бродит, как в музее. Свиток церковного предания как–то свертывается для него, он не различает эпох. Историческая перспектива для него не реальна. Все предание для него — единая скрижаль, и эта скрижаль — притча, символ недвижного… Исторические ссылки о. П. Флоренского всегда случайны и произвольны. С каким–то беспечным эстетизмом плетет он свой богословский венок. Для него не важны все вопросы исторической критики, он легко ссылается на заведомо неподлинные свидетельства, считает мнимого Дионисия святым Ареопагитом… И никогда не исследует, но только выбирает. И… умалчивает, — это в особенности для него характерно. И оттого такою особенной кажется его книга. Это книга личных избраний. И прежде всего виден в ней автор.
Свою книгу о. Флоренский начинает письмом о сомнении. Путь к истине начинается отчаянием, начинается в пирроническом огне. Это мучительный и безысходный лабиринт, и вдруг где–то неожиданно вспыхивает молния откровения. Остается неясным, о каком пути говорит о. Флоренский. Говорит ли он о трагедии неверующей мысли? Или изображает диалектику христианского сознания?… Во всяком случае он ставит вопрос так, точно самое важное — убежать и спастись от сомнения. Точно неизбежно для человека идти к Богу через сомнения и разочарования и здесь на земле проходить через чистилище и адскую муку… Вся религиозная гносеология сводится для о. Флоренского к проблеме обращения. Положительной гносеологии у него нет, он ограничивается отрицательной, нейдет дальше пролегомен: как возможно познание?… И вот, в рассуждениях о. Флоренского вскрывается противоречие: его психология не соответствует его онтологии [37]. В самом деле, как совместить антиномизм [38] и онтологизм? Как сочетать пирронизм [39] с платонизмом [40], в особенности при том толковании, какое сам о. Флоренский дает теории идей в своем этюде: «Смысл идеализма» (1915). Остается непонятным и необъяснимым, почему так антиномичен, надрывен путь познания, если мир софиен в своих основах и София, по определению о. Флоренского, есть «ипостасная система миротворческих мыслей Божиих»… Как возможно, чтобы антиномизм выражал последнюю тайну мысли, если мир создан в Премудрости, в Софии, и есть премудрое откровение Божие… Учение о грехе не допускает этой апории [41]. Ибо для о. Флоренского двоится не только греховное сознание, — мысли вообще свойственно колебаться в антиномиях и противоречиях. Антиномично и христианское сознание, антиномична догматика, антиномична сама истина, — «истина есть антиномия»… И это для о. Флоренского означает не только несоизмеримость религиозного опыта и рациональных схем, но и невозможность для разума сделать выбор между: «да» и «нет».
Получается впечатление, что только у мысли нет софийных корней, что и христианское сознание остается в плену и отравлено незнанием. Странным образом, в главе о Софии о. Флоренский совсем забывает об антиномиях… И при этом мир раскрывается для него, как система разума. Как будто бы в последнем свершении антиномии разрешаются или, по крайней мере, остановятся в вечном равновесии. Однако в сознании Церкви это равновесие еще не достигнуто. Так борьба с рационализмом приводит о. Флоренского к символизму в догматике. И здесь все качается. И отсюда нужно спасаться. Это относится не только к личному пути, но и к пути Церкви…
От сомнения разум спасается в познании Троицы. И с особой силой о. Флоренский раскрывает спекулятивный смысл Троического догмата, как истины разума. Но странным образом он как–то минует Воплощение, и от глав троичности сразу переходит к учению о Духе Утешителе. Это отсутствие христологических глав особенно разительно и поразительно в книге о. Флоренского. Образ Христа, образ Богочеловека какой–то неясной тенью теряется на заднем фоне. И потому так мало подлинной радости в книге о. Павла. Точно ушел Господь из мира… и потому не столько радуется о. П. Флоренский о пришествии Господнем, сколько томится в ожидании Утешителя, в чаянии Духа. И снова, не радуется о пришествии Утешителя, но жаждает большего. Более того, он как–то не чувствует неотступного пребывания Духа в мире, церковное видение Духа кажется ему смутным и тусклым. Откровение Духа чувствует он в немногих избранниках, но не в «повседневной жизни Церкви». Точно еще не совершилось спасение: «чудное мгновенье сверкнуло ослепительно и… как бы нет его»… И мир остался темным, непреображенным, только сверху озаряют его какие–то еще не греющие, предрассветные лучи. Сердце томится о небывалом. И потому так грустно о. Флоренскому в истории, — некая истома грусти овладевает им, и душа вся вытянута к еще не наступившему мигу… В мире христианском о. Флоренскому как–то тесно и душно… Одностороннее видение Второй Ипостаси не освобождает мира, — напротив, заковывает его в закономерность. Ибо Логос есть именно «всеобщий Закон мира»… Откровение Логоса для о. Флоренского обосновывает научность, и потому в христианском сознании не открывается свобода и красота мира. Христианский мир есть мир суровый и жестокий, мир закона и непрерывности, — точно не пришла сень законная благодати пришедши… Как в Ветхом Завете только ждали еще слова, так и в Новом Завете мы только чаем Духа, — и стало быть, в Новом Дух является только так, как в Ветхом являлся Логос. И неясно, что значит для о. Флоренского Пятидесятница… Речь идет не только об исполнении, но именно о новом откровении, о третьем завете. И в конце времен он ждет не второго Пришествия Христова, но Откровения Духа. Остается бесспорным: о. Флоренский не чувствует абсолютности Новозаветного Богоявления, Воплощение Слова не насыщает его упования. Странным образом, он как–то не видит — Иисуса Сладчайшего, не видит и пришедшего Утешителя, и все ждет иного… И снова здесь вскрывается острое противоречие в его созерцаниях. Мир еще не преображен, но уже в вечных корнях своих он Божественен. И от тоски о. Флоренский переходит к славословию. Его томление разрешается в созерцании Софии: «есть объективность, это Богозданная тварь»… Упование о. Флоренского не в том что пришел Господь, и Бог стал человеком, но в том, что от самого творения и по природе «тварь уходит во внутритроичную жизнь». В первореальности своей мир, как некое «великое существо», уже есть некое «четвертое лицо», четвертая Ипостась. В учении о Софии о. Флоренский не стремится к примирению противоречий, — образ Софии двоится и является во многих аспектах. Но при этом, учение о Софии слабее всего связано с образом Христа. И если о. Флоренский называет Софию Телом Христовым, разумея при этом «тварное естество, воспринятое Божественным Словом», то, во–первых: София предсуществует в своей полноте и реальности всякому конкретному историческому времени, а во–вторых: высшее откровение Софии о. Флоренский видит не в Христе, а в Богоматери. Получается впечатление, что во Христе о. Флоренский видит только Божество Слова, а полнота обоженного человечества открывается ему в Приснодеве. И более того, в Богоматери видит о. Флоренский предварительное явление Духа на земле, тип пневматофании [42]. Это для него подлинное предварение будущего века, начало последнего завета. И в Приснодеве он видит и чтит прежде всего явление Софии, более, чем Матерь Божию. О Богоматеринстве и о рождестве несказанном он говорит только вскользь, в эпитетах и придаточных предложениях. Во всяком случае, Богоматерь как–то отделяется для него от Христа. И о соединении двух естеств в Богочеловеке он говорит глухо. Много говорит о. Флоренский о духовном типе церковной мистики, с формальной стороны, как о собирании духа, как о девственности души. Но по содержанию его мистика всего менее мистика Христа. Скорее, — мистика первозданной тварности, мистика софийной девственности. И даже Церковь для него скорее осуществление премирной Премудрости, нежели раскрытие Богочеловечества. Потому и уходит он из христианской истории в какие–то мечтательные планы… Можно сказать, в сознании о. Флоренского как–то причудливо переплетаются августинизм и пелагианство: психологический пафос дистанции: вера в природу твари… С этим связан еще один характерный мотив: в сущности человечество предмирно разбито и раздроблено на множество несоизмеримых родов и типов, — с особой резкостью эту мысль о. Флоренский развил в своем замечательном этюде: «О типах возрастания» (в Богословском Вестнике 1906 года, июль–август). И у каждого есть свой предмирно–определенный путь, — о. Флоренский выше ставит именно эту врожденную непорочность, нежели святость подвига. И высший из «родов», — духовный род Богоматери… Флоренский остро чувствует проблематику обращения и мало ощущает пафос возрождения. Он чает проявления софийных устоев, но не говорит о воскресении. В девственности, а не в воскресении для него открывается последняя судьба твари. Он как–то замкнут в кругу софийного имманетизма.