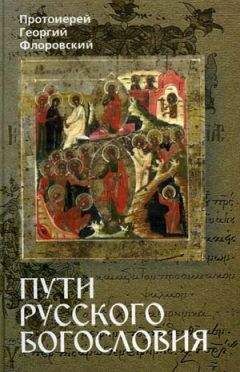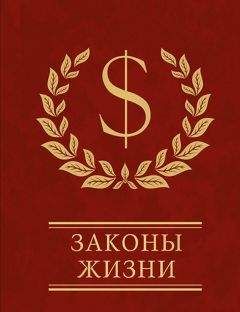Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть I
Таков был финал Никоновой реформы…
Но на том же соборе и сам Никон был низложен и извержен. Для того и собор был собран…
И Никона обвиняли здесь, между прочим, и в том, что он древние обычаи порушил и разорил, а ввел «новые томы и обряды» (см. у Паисия Лигарида). Никон в ответ упрекал своих греческих обвинителей, что они вводят новые законы «от отверженных и недоведомых книг» (он имел в виду именно новые издания греческих книг). Снова вопрос о книгах…
В суде над Никоном спуталось слишком многое: личные страсти, злоба и месть, обман и лукавство, растерянная мысль, темная совесть. Это был суд над «Священством», и в этом жизненная тема Никона…
«За великою тенью Никона затаился призрак папизма» (слова Юрия Самарина). Вряд ли это так. Скорее напротив. В деле Никона мы видим скорее наступление «Империи». И Никон был прав, когда в своем защитительном «Разорении» обвинял царя Алексея и его правительство в покушении на церковную свободу и независимость. Это чувствовалось уже в «Уложении», которое Никон и считал бесовским и антихристовым лжезаконом. Никону приходилось бороться с очень острым «эрастианством» руководящих правительственных кругов. Этим всего больше объясняется его резкость и «властолюбие…»
И снова, свою идею священства Никон нашел в отеческом учении, особенно у Златоуста. Кажется, он и в жизни хотел бы повторить Златоуста. Может быть, не всегда он выражал эту идею удачно и осторожно, и пользовался иногда и «западными» определениями. Но он не выходил при этом за пределы отеческого воззрения, когда утверждал, что «священство» выше «царства…»
В этом вопросе против него оказались не только греки, «азиатские выходцы и афонские прелазатаи», — они защищали Царство против Священства. В этом вопросе против Никона были и ревнители русской старины, «старообрядцы». И для них «Царствие» осуществлялось скорее в Царстве, чем в Церкви…
Это и была тема раскола…
Тема раскола не «старый обряд», но Царствие…
4. Трагедия раскола
Костомаров в свое время верно отметил: «Раскол гонялся за стариною, старался как бы точнее держаться старины; но раскол был явление новой, а не древней жизни…»
В этом роковой парадокс Раскола…
Раскол не старая Русь, но мечта о старине. Раскол есть погребальная грусть о несбывшейся и уже несбыточной мечте. И «старовер» есть очень новый душевный тип…
Раскол весь в раздвоении и надрыве. Раскол рождается из разочарования. И живет, и жив он именно этим чувством утраты и лишения, не чувством обладания и имения. Раскол не имеет, потерял, но ждет и жаждет. В расколе больше тоски и томления, чем оседлости и быта. Раскол в бегах и в побеге. В расколе слишком много мечтательности, и мнительности, и беспокойства. Есть что-то романтическое в расколе, — потому и привлекал так раскол русских неоромантиков и декадентов…
Раскол весь в воспоминаниях и в предчувствиях, в прошлом или в будущем, без настоящего. Весь в истоме, в грезах и в снах. И вместо «голубого цветка» полусказочный Китеж…
Сила раскола не в почве, но в воле. Раскол не застой, но исступление. Раскол есть первый припадок русской беспочвенности, отрыв от соборности, исход из истории…
И совсем не «обряд», но «Антихрист» есть тема и тайна русского Раскола. Раскол можно назвать социально-апокалиптической утопией…
Весь смысл и весь пафос первого раскольничьего сопротивления не в «слепой» привязанности к отдельным обрядовым или бытовым «мелочам». Но именно в этой основной апокалиптической догадке. «Время близ есть…»
Все первое поколение «расколоучителей» живет в этом элементе видений, и знамений, и предчувствий, чудес, пророчеств, обольщений…
Это были скорее экстатики, или одержимые, не педанты…
«Видим, яко зима хощет быти: сердце озябло и ноги задрожали…»
Достаточно перечесть задыхающегося в волнении Аввакума. «Какой тут Христос. Ни близко. Но бесов полки…»
И не для одного Аввакума «Никонианская» Церковь представлялась уже вертепом разбойников. Это настроение становится всеобщим в расколе: «суетно кадило и мерзко приношение…»
Раскол есть вспышка социально-политического неприятия и противодействия, есть социальное движение — но именно из религиозного самочувствия. Именно апокалиптическим восприятием происходившего и объясняется вся резкость или торопливость раскольничьего отчуждения. «Паническое изуверство», определяет Ключевский. Но паника была именно о «последнем отступлении…»
Спрашивается, как создалось и сложилось такое впечатление. Чем был внушен и оправдан этот безнадежный эсхатологический диагноз: «яко нынешняя церковь несть церковь, тайны божественные не тайны, крещение не крещение, писания лестна, учение неправедное, и вся скверна и неблагочестна…»
Розанов однажды сказал: «Типикон спасения, — вот тайна раскола, нерв его жизни, его мучительная жажда…»
Не следует ли сказать скорее: спасение, как типикон…
И не в том смысле только, что книга «Типикон» необходима и нужна для спасения. Но именно так: спасение и есть типикон, т. е. священный ритм и уклад, чин или обряд, ритуал жизни, видимое благообразие и благостояние быта…
Вот этот религиозный замысел и есть основная предпосылка и источник раскольничьего разочарования…
Мечта раскола была о здешнем Граде, о граде земном, — теократическая утопия, теократический хилиазм. И хотелось верить, что мечта уже сбылась, и «Царствие» осуществилось под видом Московского государства. Пусть на Востоке четыре патриарха. Но ведь только в Москве единый и единственный православный Царь (срв. у Арсения Суханова, в его «статейном списке», о его споре с греками)…
И это ожидание было теперь вдруг обмануто и разбито…
«Отступление» Никона не так встревожило «староверов», как отступление Царя. Ибо именно это отступление Царя в их понимании и придавало всему столкновению последнюю апокалиптическую безнадежность. «Во время се несть царя; един бысть православный царь на земли остался, да и того, не внимающего себе, западные еретицы яко облацы темнии, угасиша христианское солнце. И се, возлюбленнии, не явно ли антихристова прелесть показует свою личину» (диакон Феодор, не позже 1669 г.)…
Кончается и Третий Рим. Четвертому не быть. Это значит: кончается история. Точнее сказать, кончается священная история. История впредь перестает быть священной, становится безблагодатной. Мир оказывается и остается отселе пустым, оставленным, Богооставленным. И нужно уходить, — из истории, в пустыню. В истории побеждает кривда. Правда уходит в пресветлые небеса. Священное Царствие оборачивается царством Антихриста…
Об Антихристе в расколе идет открытый спор от начала. Иные сразу угадывают уже пришедшего Антихриста в Никоне, или в царе. Другие были осторожнее. «Дело то его и ныне уже делают, только последний ет чорт не бывал еще» (Аввакум)…
И к концу века утверждается учение о «мысленном» или духовном Антихристе. Антихрист уже пришел и властвует, но невидимо. Видимого пришествия и впредь не будет. Антихрист есть символ, а не «чувственная» личность. Писание толковать подобает таинственно. «Аще сокровенные тайны наречены, то тайно разумевати и подобает, мысленно, а не чувственно…»
Здесь уже новый акцент. Антихрист открывается и в самой Церкви. «И своим богомерзким действом вместился в потир, и нарицается ныне Бог и агнец» (безымянное послание в Тюмень, около 1670 г.). Но диагноз не изменяется: «настатие последнего отступления…»
И первый вывод отсюда: перерыв священства в Никонианской церкви, прекращение тайнодействий, оскудение благодати. Но перерыв священства у Никониан означал тем самым и прекращение священства вообще, и в самом расколе. И неоткуда было «восстановить» оскудевшую благодать. «Бегствующее священство» не было решением вопроса, а принятием «беглых попов» нового поставления предполагалось признание действительного и неиссякшего священства и у Никониан. О священстве в расколе очень рано начинается разногласие и спор. Сравнительно скоро расходятся и разделяются «поповцы» и «беспоповцы». Но магистраль раскола только в беспоповстве. Не так показательны компромиссы и уступки. До конца последовательным был только вывод беспоповцев…
С настатием Антихриста священство и вовсе прекращается, благодать уходит из мира, и Церковь на земле вступает в новый образ бытия, в «бессвященнословное» состояние, без тайн и священства. Это не было отрицанием священства. Это был эсхатологический диагноз, признание мистического факта или катастрофы: священство иссякло…
Этот вывод был принят не всеми. И степень наступившей безблагодатности рассчитывали по разному. Крестить (и «перекрещивать», или «исправлять») могут по нужде ведь и миряне. Однако, значимо ли и полно ли крещение без мира ?..