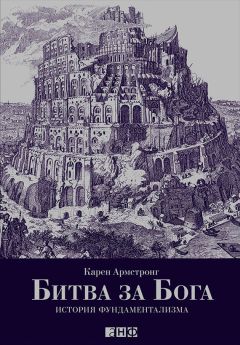Карен Армстронг - История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе
Этот фрагмент тоже станет чрезвычайно важным для христиан, когда дело дойдет до толкования естества Иисуса. Еврейский автор, однако, видит в Софии лишь один из аспектов непостижимого Господа, отчасти доступный человеческому пониманию. Она — Бог в том виде, в каком Он открывается человеку, то есть наше восприятие Божественного, таинственно отличающееся от Его истинной сущности, которую человеку не разгадать никогда.
Автор «Премудрости Соломона» проницательно подметил нараставшие трения между греческой мыслью и еврейской верой. Мы уже говорили о решающем — и, возможно, непримиримом — противоречии между аристотелевским Богом, едва ли замечающим сотворенную им самим вселенную, и Богом библейским, страстно вовлеченным в человеческую жизнь. Греческого Бога можно постичь умом, тогда как библейский Господь дает познать Себя только в откровениях. Яхве отделен от нашего мира непреодолимой пропастью, а греки полагали, что дар разумности делает людей подобными Богу и потому до Него можно при старании дотянуться. Тем не менее даже влюбленные в греческую философию сторонники единобожия неизменно старались превратить идеального Бога в своего собственного. Эти попытки будут одной из главных тем нашего дальнейшего исследования. Первым, кто их предпринял, был, вероятно, выдающийся иудейский мыслитель Филон Александрийский (ок. 30 г. до н. э. — 45 г. н. э.). Филон был платоником и заслужил репутацию видного философа-рационалиста. Он писал на безупречном греческом и, судя по всему, даже не знал еврейского — но оставался правоверным иудеем и строго соблюдал мицвот. Не исключено, что Филон просто не замечал несовместимости своего Бога с греческим. А между тем его Бог был очень непохож на традиционного Яхве. Прежде всего, Филона, по-видимому, смущали исторические книги Библии, и он пытался переиначить позорные события, превратив их в утонченные аллегории (вспомним, что Аристотель вообще ставил историю ниже философии). Бог Филона лишен каких-либо человеческих качеств: говорить, например, что Бог «гневается», совершенно неуместно. О Боге мы знаем только одно: Он есть. С другой стороны, как иудей, Филон все-таки верил, что Господь являл Себя пророкам. Как же совместить одно с другим?
Филон решил эту проблему, отметив важное различие между совершенно непостижимым естеством усия (ousia) Бога и его деяниями на земле, которые философ именовал «силами» (dynameis), или «энергиями» (energeiai). В целом, это походило на решение Р и авторов «Премудростей»: истинного Господа, как Он есть, нам не познать никогда. По Филону, Бог говорит Моисею: «Сущность Моя больше, чем могут вместить естество человеческое и, поистине, даже небеса и вся вселенная».[72] По причине ограниченности нашего разума Бог пользуется Своими «силами», которые, судя по всему, равнозначны платоновским божественным формам (правда, в этом вопросе Филон не всегда последователен). Это и есть высшие реалии, какие только доступны человеческому пониманию. У Филона они извечно исходят от Бога, подобно тому как у Платона и Аристотеля — от Первоначала. Особенно важны две такие силы: Филон именует их Царской (она раскрывает Бога в упорядоченности мира) и Творческой (через нее Бог являет Себя в благодеяниях, даруемых людям). Ни ту, ни другую не следует путать с божественным естеством (ушей), извечно окутанным непроницаемой тайной. Силы Бога позволяют нам улавливать лишь проблески совершенно непостижимой реальности. Время от времени Филон говорит о сущности (усии) Бога в сочетании с Царской и Творческой силами, образующими нечто вроде троицы. В частности, предлагая свое толкование истории о пришествии Яхве и двух ангелов к Аврааму близ дубравы Мамре, Филон утверждает, что это аллегорическое олицетворение Божественной усии (Бог-как-Он-есть) и двух главных сил.[73]
J был бы изумлен подобными идеями. Евреи вообще с недоверием относились к представлениям Филона о Боге. Христианам эти взгляды принесли, однако, огромную пользу, а греки, как мы увидим далее, глубоко прониклись мыслью о разнице между непостижимым «естеством» Бога и «энергиями», посредством которых Он нам открывается. Значительное влияние на них оказала и филоновская теория о божественном Логосе. Как и другие авторы книг о Премудрости, Филон полагал, что Бог составил некий генеральный план (логос) творения. Замысел-Логос соответствовал Платоновому миру идеальных форм, и формы эти воплотились затем в материальной вселенной. В этом вопросе Филон тоже не до конца последователен: он то считает Логос одной из сил, то, судя по всему, ставит его над ними и именует высочайшей из идей Бога, доступных человеческому пониманию. Тем не менее, размышляя о Логосе, мы ничуть не приближаемся к познанию Бога, хотя и вырываемся за пределы сбивчивого ума и обретаем интуитивное восприятие, которое «выше мышления и всего драгоценнее, так как прочее — просто мысль».[74] Такая деятельность во многом сходна с платоновским созерцанием (теорией). Филон настойчиво утверждал, что нам никогда не постичь Бога-как-Он-есть и высшей из доступных человеку истин является лишь восторженное осознание того, что Бог совершенно запределен и умом Его не объять.
Впрочем, всё не так безнадежно, как может показаться. Филон поведал нам про бурные чувства и счастье, которые он испытывал при погружении в непостижимое, наделявшее его свободой и творческими силами. Как и Платон, душу он считал изгнанницей, попавшей в ловушку материального мира. Изгнаннице надлежит подняться к Богу, вернуться на родину, оставив любые слова и чувства, так как тело приковывает ее к несовершенному миру. В конце концов освобожденная душа испытывает блаженство, которое уносит ее за унылые горизонты эго к иной, беспредельной действительности. Нам уже ясно, что рассуждения о Боге часто превращались в творческую игру воображения. Пророки, размышляя о своих переживаниях, инстинктивно соотносили их с некой сущностью, которую они именовали «Богом». Филон показал, что религиозное созерцание имеет много общего с другими видами творческой деятельности. По его признанию, временами, когда он с тоской корпел над своими книгами и не мог продвинуться ни на шаг, его вдруг окутывало Божественное:
Я внезапно переполнялся, мысли сыпались, словно снег, и такая Божественная одержимость вселяла в меня какое-то корибантическое безумие, и я не замечал более ничего — ни места, ни людей, ни настоящего, ни самого себя, ни что я говорю или пишу. Ибо мной овладевали впечатления, мысли, радость жизни, пронзительные видения и необычайная ясность зрения вещей, какая дается глазам лишь при чистейшем изображении.[75]
Позднее столь тесное единство с греческим миром стало для евреев невозможным. В год смерти Филона в Александрии прошли еврейские погромы; повсюду стремительно распространялась боязнь мятежей со стороны евреев. В первом веке до н. э. север Африки и Средний Восток захватила Римская империя. Римляне тоже поддались соблазну эллинской культуры; их давним богам нашлось место в греческом пантеоне, а сами они с восторгом переняли эллинскую философию. Чего они не унаследовали от греков, так это неприязни к евреям. Вообще говоря, последним римляне оказывали куда больше почтения, так как считали евреев достаточно надежными союзниками в тех греческих полисах, где к Риму относились враждебно. В религии евреям тоже предоставили полную свободу: все знали, что вера израильтян очень древняя, и одно это внушало уважение. Отношения между евреями и римлянами были неплохими даже в Палестине, где чужеземную власть всегда недолюбливали. К I веку н. э. иудаизм занял в Римской империи очень прочное положение: евреи составляли десятую часть ее населения, а в Александрии, где жил Филон, евреев было не менее сорока процентов от общего числа жителей. Римский мир искал в те времена новых религиозных решений; в воздухе витали идеи единобожия, а местные боги постепенно переходили в разряд скромных частных проявлений единой и вездесущей божественности. Римлян особенно привлекала высоконравственная сторона иудаизма. Многие из тех, кто по вполне понятным причинам не желал делать обрезание и соблюдать все законы Торы, часто становились почетными членами синагог; таких верующих называли «богобоязненными». Их становилось все больше; есть даже предположения, что в иудейскую веру обратился один из императоров Флавиев (как позднее Константин принял христианство). В Палестине, однако, группа политических ревнителей яростно сопротивлялась римской власти. В 66 году н. э. они подняли восстание против Рима и, как ни странно, целых четыре года сдерживали натиск римских войск. Власти опасались, что евреи начнут бунтовать и в других землях, поэтому мятеж был безжалостно подавлен. В 70 году войска нового императора Веспасиана взяли Иерусалим, Храм сровняли с землей, а город переименовали на римский лад: Элия Капитолина. Евреи в очередной раз вынуждены были стать изгнанниками.