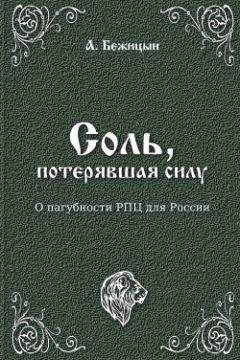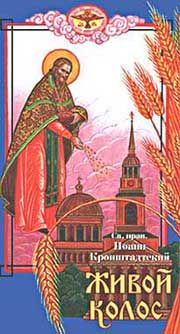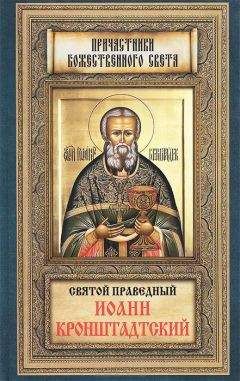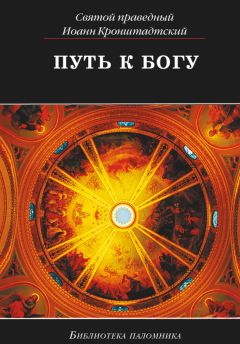А Бежицын - Соль, потерявшая силу
Величие страны не исключает военной мощи, но к ней не сводится, и чем дальше, тем ее относительная роль будет снижаться все заметнее. И ранее наши мыслители видели ущербность такого "военного подхода" к делам государственным. "Истинное величие России, - писал В.С. Соловьев, - мертвая буква для наших лжепатриотов, желающих навязать русскому народу историческую миссию на свой образец и в пределах своего понимания. Нашим национальным делом, если их послушать, является нечто, чего проще на свете не бывает, и зависит оно от одной-единственной силы - силы оружия" /96/.
Пожалуй, большинство россиян считает ненависть к другим совершенно необходимой, и ксенофобия, видимо, наша национальная черта. Она ярко проявилась и у тех порожденных петровскими реформами представителей образованных классов, которые остро переживали ощущение некоторой ущербности при встрече с Западом. Они избрали путь полегче: вместо того чтобы поднимать свою страну - опустить Запад. Были среди них фигуры почти комичные, вроде Ширинского-Шихматова, написавшего такие вирши:
Подобно как Иван Великой
Превыше низких шалашей,
Так росс возносится душей
Превыше царств Европы дикой
И дивен высотою чувств!
Но и фигуры куда более крупного масштаба - туда же. Попав на Запад и уязвившись его отличиями от России, они для восстановления душевного и нравственного равновесия не нашли ничего лучшего, как поносить Европу. Гоголь, Тютчев, Достоевский в Риме, Мюнхене, Баден-Бадене и Париже писали самые гневные инвективы против Запада. Нетрудно увидеть здесь действие компенсаторного механизма: у вас хорошо, у нас плохо, эта мысль невыносима, порождает комплекс неполноценности. Чтобы компенсировать его, надо себя восхвалять, а вас - ругать. И многие наши великие выбирали такой путь.
Но и тут не все однозначно. Гоголь, как полагает, например, Г. Флоровский, "..в своем мировоззрении и в складе душевном ... был весь западный, с ранних лет был и остался под западным влиянием. Собственно, только Запад он и знал, - о России же больше мечтал. И лучше знал, какой Россия должна стать и быть, какою он хотел бы ее видеть, нежели действительную Россию" /97/. И при всех его "Выбранных местах.." и "Размышлениях о божественной литургии" он был привержен двоеверию в первоначальном православном значении этого слова: признавал равенство "латинства" и восточного христианства. "Потому что, - писал он, - как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменить одну на другую. Та и другая истинна..." /98/. А некоторые авторы, основываясь на его описании католичества и православия (первого с большим пиететом, второго довольно насмешливо - в "Тарасе Бульбе", например), пишут даже, что он явно предпочитал католичество. Тут, разумеется, существуют разные точки зрения, но важно отметить, что есть и такая, тоже небезосновательная.
У Достоевского при желании можно найти - и находят - не только поношение Европы, но и восхищение ею. Да, он повторял слова о гниении Запада, превозносил православие в ущерб католичеству и протестантству - но при всем том именно он хотел опуститься на колени перед Кельнским собором, это он сказал много проникновенных слов о "стране святых чудес". Таково его определение Европы, и оно точно передает чувства многих и многих русских, встретившихся с Западом.
Он громче других отпевал его ("Франция - нация вымершая и сказала все свое"), и тут он совсем не одинок. Русские ура-патриоты вот уже почти триста лет поют Западу "Вечную память", с ликованием встречают малейшую там трудность: "Все! Гниет! Разлагается! Кончается! Уже кончился! А мы ему на смену!" Но "покойник" проявляет завидную живучесть, а вот мы - никак. И не надо забывать, что Достоевский, громче других вещавший о "конце Запада", писал: "А между тем от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, - я первый страстно проповедую это и всегда исповедовал".
Что до Тютчева, то ему принадлежат самые надменные стихи о преимуществах России перед Западом об ущербности последнего, о славном будущем России ("Русская география"). Но Запад он не просто любил - жить без него не мог. По свидетельству знавших его людей, через две недели жизни в России он начинал тяготиться ею и стремился на Запад, чтобы оттуда воспевать ее в ущерб Европе. И даже "Люблю грозу в начале мая" - это ведь из "Весны в Баварии" (для России рановато - гроза в мае). А при возвращении в Россию у него вырывались такие строки:
Ни звука здесь, ни красок, ни движенья
Жизнь отошла - и покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе
"Сниться самому себе" - очень православное занятие.
Так что не отторжение и отвержение Запада и всего западного было присуще нашим даже вроде бы европоненавистникам из самых значительных, а жадное поглощение "святых чудес" и тоска по ним. Особенно тосковал по ним Пушкин. Он, напомним, по-французски начал говорить раньше, чем по-русски (лицейское прозвище - "Француз"), и, стало быть, еще в младенчестве бессознательно усвоил чувство меры, гармонию и изящество, присущие как раз галльскому мировосприятию и языку. Этого нет у всех других русских писателей и поэтов, русский гений - мрачен и тяжеловесен, и только "наше все" обладает перечисленными выше свойствами в избытке, и его изящество и легкость скорее всего объясняются ранним усвоением французского языка. Что нисколько не умаляет величия всего совершенного им для русской словесности и культуры.
А мечтой всей его жизни было - побывать в Европе. Из письма к П.А. Вяземскому: "Ты который не на привязи - как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь". Не дали, так и остался поэт на привязи, невыездным. И сетовал, что черт его догадал родиться в России с его умом и талантом. И при всем том никто не может поставить под сомнение патриотизм Пушкина, который не сводится к стихотворению "Клеветникам России". И отношение Пушкина к православию очень неоднозначно.
Многие русские мыслители открыто признавали притягательность для русских Европы, не испытывая при это никакой ущербности, и, стало быть, и нужды в поношении Запада, которому предавались многие. В.В. Розанов, у которого вообще-то патетики немного, так пишет о Европе: "Страна святых чудес" - она неудержимо влечет нас к себе, и все, что находим мы в ней, мы не можем не одобрить, не в силах бываем отрицать. Сколько душевной красоты разлито в ее истории - в этих крестовых походах, в ее свободных коммунах, в величественном здании средневекового католицизма и в том полном одушевления восстании против него, которое мы называем Реформациею!.. И какой мыслью все это облито - мыслью еще более, нежели красотою! Станем ли говорить мы, что это только внешность? Не будем ни обманываться, ни обманывать: именно обилие духа неудержимо влечет нас к этой цивилизации, глубокая вера, скрытая в ее истории, чрезвычайное чистосердечие в отношении к тому, что делала в каждый момент этой истории, к чему стремилась, чего хотела... Оставим ложно и злое в своем отношении к Европе - оно недостойно нас, недостойно того смысла, уразуметь который мы хотим, подходя к ней" /99/.
После Катастрофы такого отношения к Европе стало куда меньше. И меньше стало людей, усваивающих западные ценности без ущерба для своей русскости, обогащающих ее ими. Сейчас преобладает либо лакейское хамство, либо лакейская же угодливость, смердяковщина. А вот способных говорить с Европой на равных мало. Но все же они есть, и это вселяет некоторую надежду, хотя и слабую: их голоса явно забивает все тот же "Гром победы".
Об этом "Громе" писал и И.П. Павлов: "Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время сделала Россия для культуры? Какие образцы показала она миру? А ведь люди верили, что Россия "протрет глаза" гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически!" /100/.
Фантастическое житие в России всегда предпочитали реальному, к этому нас официальная церковь приучила. Она же культивировала не только поношение инославных-иноверных, всего Запада, но и самопревознесение, которое, конечно же, позаимствовал у нее наш третьесортный патриотизм. Такого беспардонного бахвальства, как у нас, видимо, нигде в мире не сыщешь. Оно с необходимостью сопровождает поношение иных и есть проявление все того же комплекса неполноценности. Тут совсем нет меры, наши самовосхваления, помимо всего прочего, это чудовищно дурной вкус.
Он проявляется и в позерстве, которое тоже есть следствие неуверенности в себе, в кривлянии и ломании, в стремлении во чтобы то ни стало "удивить мир", а не получается - так "показать кузькину мать". Иначе самоутвердиться третьесортный патриот никак не может. Он постоянно ждет восхищения собой, бывает страшно разочарован, не дождавшись такового: "не понимают нас, не ценят, не любят". И - страстная жажда всяких неполноценных людей: чтоб поняли, оценили, полюбили. Об этом мечтал Достоевский, который все ждал, что "удивятся, и придут, и поклонятся". Не пришли, не поклонились, а вот что до "удивятся", то и впрямь удивились - нашему ХХ веку. Никто не предполагал, что все "издохнет" столь унизительно.