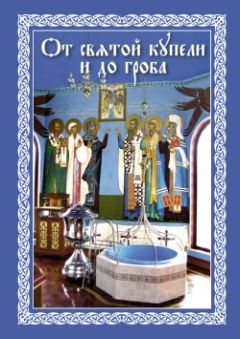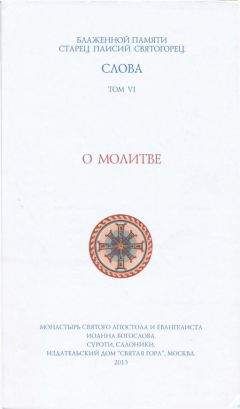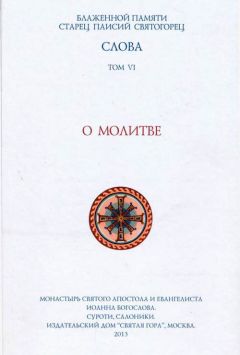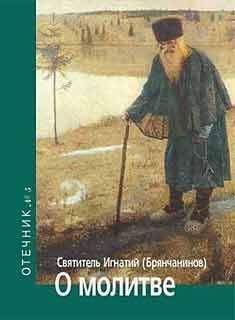Владимир Бибихин - Язык философии
Вопроса о том, что делает мыслитель, нам не обойти. Но пока мы стоим перед его текстами и задаемся этим вопросом, Гераклит тем самым уже делает — а именно он делает наше отношение к другому нашим делом. Чем‑то другим, более надежным, чем умственное понимание или непонимание, он ставит нас, едва мы потянулись к нему и оказались захвачены им, в отношение к отдельному.
Что такое другое? трансценденция? онтологическая разница? Может быть, надо опереться на бытие Хайдеггера, чтобы понять отдельное Гераклита? Но как опереться на хайдеггеровское бытие, если он не дает ему определения и пишет это слово, Sein, перечеркнутым крест–накрест, чтобы напомнить нам, что мы не представляем себе бытия? Концы этих двух диагоналей Хайдеггер предлагает понимать как указание на четверицу земли и неба, богов и людей — четверицу мира. Мир — космос. Космос, по Гераклиту, вечноживой огонь. Огонь, гаснущий в море, расслаивается на землю и небо. Огонь, вода, земля, небо — античная четверица. Обе четверицы, Хайдеггера и Гераклита, — не схемы мира. Мир, космос не такая вещь, чтобы представить его в виде схемы. Хайдеггер лишний раз напоминает, что он чистая трансценденция. Мы должны смириться с тем, что нам не удастся редуцировать мысль мыслителей к тому или иному привычному смыслу. Наша потерянность не мешает нам продолжать читать их.
«Всё ползущее бичом пасется» (Гераклит, фр. 11). Аристотель, через которого дошла эта фраза Гераклита, понимает ползущее как живых существ, диких и домашних, без упоминания человека, хотя определенный род человеческих существ у Аристотеля назван стадом и в этом смысле явно включен в число ползущего, ἑρπετόν. Бич, точнее резкий удар, πληγή,во всей греческой литературе известен, между прочим, как удар молнии Зевса, Перуна. Так прямо говорится в другом фрагменте: «Всем сущим правит Перун» (фр. 64).
«Всё живое пасется молнией». Мы раньше чувствуем, чем можем понять и объяснить, что само слово Гераклита имеет свойство молнии настигать нас прежде чем мы с разных сторон осмыслим сказанное. Мы сразу и невольно соглашаемся: да, живым правит не рассуждение, не ползучий дискурс. Всё живое, «ползущее», т. е. постепенно одолевающее пространство и время, отмечено обреченностью на внезапную покорность не словесному даже приказу, а какому‑то молниеносному велению, вот уж правда «манию руки». Ползущее в какой‑то момент обязательно оставит свое постепенное развитие и подчинится повелительному жесту. Вождей, вбиравших в себя молнию Зевса, нерассуждающую, сверхчеловеческую, восторгающую, всесметающую силу, называли бичами Божиими. Совсем не обязательно, чтобы такий бич знал, куда он гонит. Он передатчик молнии, жеста Громовержца.
В недрах живого организма правит молния. Птицы сбиваются в стаи и пускаются в тысячекилометровый путь, падая мертвыми от усталости, замерзая на лету. Зверь бросается на другого зверя, который сильнее его. Гераклитовскую молнию было бы напрасно интерпретировать какими‑то данными биологии; скорее, она терпеливо дожидается, когда будет привлечена для объяснения законов живущего.
В ткани другого рода, тоже в важном смысле живой, хотя и не органической, ткани общественно–государственной жизни, правит сходный закон. Распространение российского населения на огромных пространствах Восточной Европы и Азии, погруженность этого населения в природную жизнь могла кому‑то казаться гарантией массивной медлительности, нелегкости на подъем, вечной китайской неподвижности. Вся эта масса народа, прикрепленная, казалось, к громадным объемам природного вещества, против всякого ожидания быстро и решительно отбросила навыки рассудительной обстоятельности, здравого смысла. Сообщение, переданное ранней весной 1917 года из отдаленной столицы по всей стране, действовало не своим содержанием, убеждало не обещанием переустройства жизни на более разумных началах взамен старым, менее рациональным. Сообщение было принято страной как сигнал. Оно вгоняло человека в другое, электризованное состояние. Современники отмечали, что человеческий тип в России сменился за несколько недель, если не за несколько дней, часов. Все вдруг поняли, что «пробил час». Медлительное до того существование восприняло импульс, который приняло не как внешний, — мы знаем, как на самом деле медленно перестраивается, с какой неохотой мобилизуется человек в ответ на внешний импульс, — и петербургские события явились тут лишь агентом какой‑то более тайной силы.
XX век знал не одну такую мобилизацию целого народа, полнота и быстрота которой находились в обратной зависимости от разумной осознанности. Вернер Гейзенберг вспоминает, как Нильс Бор спросил его о начале войны 1914 г. в Германии. «Нашим друзьям, — говорил Бор, — пришлось в первые августовские дни того года проезжать через Германию, и они сообщали о большой волне воодушевления, которая захлестнула не только весь немецкий народ, но даже посторонних наблюдателей, хотя вместе с тем и навела на них ужас. Разве не поразительно, что народ шел на войну в пылу настоящего энтузиазма, когда должно же было всем быть понятно, сколько ужасных жертв, своих и вражеских, потребует война, сколько неправды будет твориться с обеих сторон? Вы мне можете это объяснить?» Ответ Гейзенберга: «Не думаю, чтобы слово энтузиазм верно отражало настроение, которым мы все были тогда охвачены. Никто из известных мне людей не радовался предстоящему и никто не считал добрым делом наступление войны. Если попытаться описать, что происходило, то я сказал бы так: все ощутили, что дело пошло вдруг всерьез. Мы осознали, что были до того времени окружены видимостью прекрасного благополучия, внезапно улетучившейся с убийством австрийского наследника престола, и из‑за кулис теперь выдвинулось на передний план жесткое ядро реальности, некий императив, от которого наша страна и все мы не могли уклониться и на уровне которого теперь надо было оказаться. Всё исполнилось решимости, пусть и в глубочайшей тревоге, но всем сердцем […] В таком всеобщем порыве есть что‑то кружащее голову, что‑то совершенно жуткое и иррациональное, это правда […] Повсюду вокзалы были переполнены кричащими, теснящимися, возбужденными людьми […] До последнего момента у вагонов толпились женщины и дети; люди плакали и пели, пока поезд не уходил со станции. С совершенно чужим человеком можно было говорить, словно знаешь его много лет […] Но как же так, какое отношение этот невероятный, невообразимый день, который никогда не забудешь, если его пережил, имеет к тому, что обыкновенно называют военным воодушевлением или даже радостным чувством войны?.. Мелкие повседневные заботы, прежде теснившие нас, исчезли. Личные отношения, ранее стоявшие в центре нашей жизни, отношения с родителями и друзьями стали маловажными в сравнении с одним и самым непосредственным отношением ко всем людям, которых постигла одна и та же судьба. Дома, улицы, леса — всё стало выглядеть не как раньше […] даже небо приобрело другой оттенок».
Бор: «То, что ощущали эти молодые люди, шедшие на войну с сознанием правоты своего дела, составляет величайшее счастье, какое может пережить человек […] Разве всенародный порыв, свидетелем которого Вы были, не имеет совершенно явственного сходства с тем, что происходит, например, когда осенью птицы стаями тянутся на юг? Ни одна из птиц не знает, кто принял решение о перелете на юг и почему перелет происходит. Но каждая захвачена общим возбуждением, чувством стаи и счастлива, что может лететь, хотя для многих перелет кончится гибелью. У людей в подобном совместном порыве поражает то, что он, с одной стороны, стихийно несвободен, как, скажем, лесной пожар или любое другое естественное явление природы, а с другой — в поддавшемся ему индивиде он порождает ощущение величайшей свободы»[18].
Народ поднялся в ответ на мобилизацию, мало понимая, на что он идет, но впитав главное: началось нечто серьезное. Рационализации пришли потом, как и вообще обычно объяснения, обоснования, осмысления всегда идут хромая по следу события. Публицисты подметают своим языком оставленный событием сор.
Человек мобилизован внезапным событием, но не подавлен, а захвачен, т. е. освобожден. Если бы жизнь подчинялась рациональности, она давно была бы устроена. Человеческое существо, а может быть, всякое вообще живое существо готово отбросить рациональность. Здесь тайна власти. Ее постановления дают как правило эффект противоположный задуманному, т. е. с самого начала действуют провокацией. Они определяют однако всю жизнь общества не вопреки своей неспособности достичь рационально поставленных целей, а благодаря своей непостижимости. Импульс власти стремится действовать по способу молнии, имитировать громовой удар.