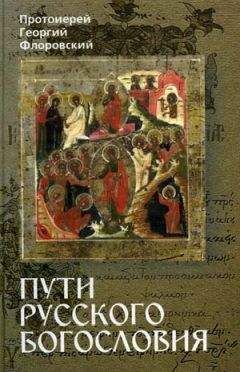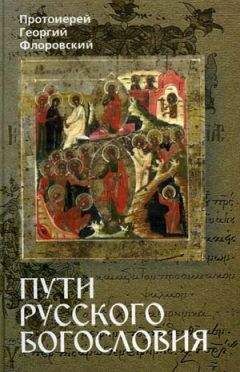Георгий Флоровский - Византийские Отцы V-VIII веков
Чрез все анафематизмы святого Кирилла проходит единая и живая догматическая нить: он исповедует единого Христа, единство Лика, единство жизни.
4. Терминология святого Кирилла не отличалась четкостью и однообразием. Нередко он был готов говорить чужим языком. Для него слова всегда только средства. И от своих слушателей и читателей он требует и ожидает, что через слова и сквозь слова они взойдут к созерцанию. Это не значит, что он смешивает понятия, что двоится или колеблется его мысль. Напротив, в своем исповедании святого Кирилл всегда тверд, прям и даже почти что упрям. С этим связано у него известное многословие, излишество в терминологии. Он накапливает синонимы, приводит слишком много образов и подобий. Ни в коем случае не следует слишком систематизировать и стилизовать его богословский язык. В христологическом словоупотреблении святой Кирилл обычно не различает терминов: φύσις, ύπόστασις, πρόσωπоν, и употребляет их одно подле другого или одно вместе с другим, как очевидные синонимы. Все эти термина у святого Кирилла обозначают одно: конкретную индивидуальность, живое и конкретное единство, «личность». Это не мешает ему в отдельных случаях употреблять их в ином смысле, говорить о «природе человека» во Христе, отличать «ипостась» от «лица» и употреблять термин «ипостась» в прямом и широком нетерминологическом смысле. В таком широком смысле он употребляет его в известном и пререкаемом выражении анафематизмов: ένωσις καθ' ύπόστασιν. И при том для обозначения того же факта, который он определяет, как «естественное единство», и к которому относит мнимо-афанасиеву апполинариеву формулу: μία φύσις τоύ θεоϋ Λόγоυ σεσαρκωμένη. Святой Кирилл часто не замечает, что слова его звучат сильнее, говорят большее, чем он хочет сказать. И в этом отношении он действительно давал повод к неточному и неверному, к «монофизитскому» толкованию. «Природное» или «ипостасное» единство для него значит только «всецелое соединение» и «истинное единство», в противовес только нравственному или мыслимому «относительному соприкосновению» (συνάφεια σχετική) Нестория и других «восточных». В этом смысле сам Кирилл в ответ Феодориту объяснял выражение: καθ' ύπόστασιν, — оно означает «не иное что, как, что естество или ипостась Слова (что означает самое Слово) по истине (действительно, κατ' άληθείαν) соединилось с естеством человеческим без всякого превращения или изменения,… и мыслится и есть единый Христос, Бог и человек», — «Сам Сын Единородный чрез восприятие плоти… стал истинным человеком, так что пребывает и истинным Богом…» «Естественное соединение» есть единство «истинное», т. е. не смешивающее и не сливающее естества так, чтобы им нужно было «существовать иначе, чем вне соединения». Основная задача для святого Кирилла всегда в том, чтобы исключить всякое обособление человечества во Христе в какое-нибудь самостоятельное существование. Он стремится утвердить истину единства, в его устах μία φύσις означает единство Богочеловеческого бытия или Богочеловеческой жизни. В полноте своей это единство и образ соединения недоведомы и неизреченны. Его можно только отчасти определить. Первое, что нужно здесь подчеркнуть, это — что соединение начинается от самого зачатия Пресвятой Девой. Не был сперва зачат человек и на Него низошло Слово. Но зачата была плоть нисшедшего Слова, с которой Оно соединено, и которая ни малейшего мгновения не существовала сама по себе (ίδικώς). Это соединение не есть сочетание двух предсуществующих, — это было «восприятием» в собственность и единство со Словом вновь возникающего человеческого «качества» (πоιότης φυσική), — только логически можно воображать человечество Христа до соединения. И вместе с тем единство Христа не есть в понимании святого Кирилла следствие Воплощения или соединения. Воплощение есть восприятие. И святой Кирилл стремится разъяснить, что восприятие человечества не нарушает единства ипостаси Воплощающегося Слова. Неизменной и единой остается ипостась или лицо Слова в воплощении (Λόγоς ένσαρκоς), как и вне воплощения (Λόγоς άσαρκоς). В этом смысле соединение «ипостасно», ибо в вечную ипостась Слова восприемлется человечество. Соединение — «естественно», ибо человечество неизреченно связуется с самою природой и лицом Слова. Говоря об едином «естестве» Воплотившегося Слова, святой Кирилл нисколько не умаляет полноты человечества. Он отрицает только «самостоятельность» или независимость человечества. Человеческая природа в Христе не есть нечто «о Себе» (καθ' έαυτήν). Но Воспринятое Словом человечество есть полное человечество, и во Христе различимы два «естественных качества» или «два совершенных» (т. е. полных бытия), каждое «в своем естественном свойстве» (ό τоϋ πώς είναι λόγоς) Полнота человечества не ущербляется соединением, не поглощается Божеством, или вообще не происходит никакого изменения. Христос обладает в своем единстве двояким единосущием, — Он единосущен и матери и Отцу… Правда, святой Кирилл в общем избегает говорить о человечестве во Христе, как о природе, или о двух природах, и предпочитает говорить о «свойствах природы». Но только потому, что φύσις он понимает в данном случае как ύπόστασις (т. е., как самодостаточную индивидуальность), а не потому, что он как-либо умаляет или ограничивает самое человеческое естество. Поэтому он без колебания мог подписать формулу соединения, где говорилось о «двух природах», так как по связи текста здесь исключалось недопустимое понимание этого выражения. Поэтому он мог в других случаях говорить о соединении «двух природ…» Различие «природ» (ίδιότης ή κατά φύσιν) для святого Кирилла всегда оставалось очень резким, и потому он и подчеркивал, что соединение чудно и непостижимо. И как недоведомая тайна Божественного нисхождения к людям, оно явлено в историческом лице Христа, запечатленном в Евангелии. Святой Кирилл четко разграничивает понятия «различения» и «разделения». Не надлежит разделять двоякое во Христе, но только различать, то есть, различать мысленно или логически (εν θεωρία, εν ψίλαις καί μόναίς έννоιαις). Ибо единство «разнородного» во Христе нерасторжимо и неразложимо, ένωσις άναγκαιοτάτη… «Посему, — объяснял святой Кирилл, — если после неизреченного соединения назовешь Еммануила Богом, мы будем разуметь Слово Бога Отца, воплотившееся и вочеловечившееся. Если назовешь и человеком, тем не менее разумеем Его же, домостроительственно вместившегося в мере человечества. Говорим, что Неприкосновенный стал осязаемым, Невидимый — видимым, ибо не было чуждо Ему соединенное с Ним тело, которое называем осязаемым и видимым…» Святой Кирилл всячески подчеркивает единство Христа, как действующего лица в Евангелии: к одному лицу (т. е. субъекту) должно относить и то, что говорится по Божеству, и то, что говорится по человечеству, — к единой ипостаси Воплотившегося Слова. Даже страдание святой Кирилл относить к Слову, — конечно, с пояснением, что это отнесение определяется соединением: не само Слово страждет, но плот; однако, собственная плоть Слова, — никакого «феопасхитства» у святого Кирилла не было.
Богословская мысль святого Кирилла всегда совершенно ясна. Но он не мог найти для нее законченного выражения. В этом основная причина долгих споров и недоразумений с Востоком. Формула единения составлена в «антиохийских» выражениях, в нее не вошли любимые выражения святого Кирилла. Вместо «единой природы» здесь говорится о «едином лице» из двух и в двух природах… И вместе с тем, дальнейшее развитие православной христологии совершалось в духе и в стиле святого Кирилла, несмотря на то, что приходилось теперь не столько защищать истину единства, сколько разъяснять его неслиянность, раскрывает как бы его меры и пределы. Однако, уже отцы Халкидонского собора утверждали с ударением, что содержат «веру Кирилла». И тоже самое повторялось и позже. Этому не мешало, скорее содействовало и то, что подлинные монофизиты настойчиво оспаривали у православных право на Кириллово наследие и преемство. Формулы Кирилла были оставлены, но его сила была не в формулах, а в его живом созерцании, которое раскрывалось у него в целостную христологическую систему. Святой Кирилл был творческим богословом большого стиля, последним из великих александрийцев.
II. К истории Эфесского собора
(A. d’Ales. Le dogme d’Ephese. Paris, 1931).
D’Ales опирается на новое издание, и в этом первое достоинство его интересной, хотя и слишком краткой книги. Это запись его специального курса, читанного этой весной в Парижском Institut ctholique… — Однако, задача историка еще не исчерпана, когда он расскажет, «что собственно случилось…» Историк должен еще вскрыть и показать смысл случившегося или происшедшего. И это все труднее в истории Эфесского собора. История собора есть история раскола. Собравшиеся в Эфесе для рассуждения о Нестории отцы разделились. В Эфесе заседало два собора, взаимно отлучившие друг друга. Правда, истинным и «вселенским» был только один из них, собор Кирилла Александрийского и Мнемона Эфесского, к которому примкнули и римские легаты; а второй собор или соборик (conciliabulum), собор «восточных» был и оказался «отступническим соборищем». Но при этом и на этом «соборище» преобладающее большинство было бесспорно православным. Историк должен, прежде всего, показать и объяснить, как и почему был возможен и в известном смысле даже неизбежен этот раскол или разделение православного епископата. Предварительный ответ довольно прост и легок: это было разделение и столкновение двух богословских школ или направлений, Александрийского и Антиохийского. И с этим связана очень модная в последнее время попытка исторической и даже догматической реабилитации Нестория. Возникает вопрос, справедливо ли был он осужден, и не вменили ли ему в действительности его враги таких лжеучений, которых он на деле не проповедывал и не разделял… Острота вопроса в том, что Нестория исторически поддержал почти весь православный «Восток», т. е. Антиохийская или Мало-азийская церковь, и здесь отреклись от Нестория в сущности скорее канонически, чем догматически… В последнем счете, вопрос о Нестории есть вопрос о Диодоре и Феодоре Мопсусетийском), вопрос о блаж. Феодорите. Так этот вопрос и был поставлен на V-м Вселенском соборе, когда Феодор был осужден, а из творений блаж. Феодорита иные были анафематствованы. И здесь снова возникает сомнение, не были ли пристрастными и торопливыми эти посмертные анафематствования. Если за Нестория в современном богословии вступаются все же немногие, то не защиту Антиохийцев встает вряд ли не большинство… И вот, большой и бесспорной заслугой о. д’Алеса нужно признать, что он вполне свободен от этих модных увлечений. Это свидетельствует не только о его трезвом богословском консерватизме, но еще о его большой богословской наблюдательности. В последней главе своей книги он ставит общий вопрос: Несторий и Кирилл Александрийский; и делает попытку восстановить учение Нестория, прежде всего, на основании тех бесспорных отрывков из проповедей Нестория, присланных им самим в Рим, которые и послужили поводом к его осуждению и в Риме, и в Александрии, еще до Эфесского собора… При всей осторожности и бережливости, при всех оговорках и поправках, приходится признать здесь у Нестория опасную и обманную богословскую тенденцию, — тенденцию к чрезмерному обособлению человеческого естества во Христе… И эта тенденция, действительно, была общей всему Антиохийскому богословию. Нельзя говорить, что это было «адопцианское» богословие, но соблазн «адопцианства» не был здесь преодолен и обезпложен… Напротив, св. Кирилл, пр всех своих обмолвках, был непоколебимым исповедником Воплощенного Слова… Своего анализа о. д’Алес не доволит до конца. Но более внимательный и подробный анализ может только подтвердить его характеристику… На Эфесском соборе, действительно, вскрылось «недоразумение». Но это недоразумение заключалось не в том, что, грубо говоря, «своя своих не познаша», и православные в запальчивости анафематствовали друг друга, как еретиков, — но в том, что часть православных оказалась богословски близорукой… В этой близорукости и были повинны антиохийцы, «восточные». Для них призрак Аполлинария заслонил реальный образ Нестория, — как в свое время, после Никейского собора, для многих призрак Савеллия заслонил образ Ария. Тогда спорили с мнимым савеллианством св. Афанасия и каппадикийцев, теперь с мнимым аоллинаризмом св. Кирилла. Правды Афанасия не умаляет позднейшее рождение монофизитов из духа «египетского» благочестия, как бы ни притязали монофизиты на наследие св. Кирилла… И близорукость антиохийцев определялась не только их философскими навыками или интеллектуальными предпосылками. Она органически связана с их религиознам идеалом, — нужно сказать, с их антропологическим идеалом, с их учением о призвании и назначении человека. В антропологии коренится главная слабость антиохийского богословия. Столкновение Александрийского и Антиохийского богословия уже на Эфесском соборе было столкновением двух антропологических интуиций, двух антропологических идеалов. Историю христианских споров V-VIII веков вообще можно до конца понять только из антропологических предпосылок. Ведь весь спор шел именно об антропологическом факте, — после победы над арианством уже не спорили о Божестве Христа, Воплощенного Слова; спорили только о Его человеческом естестве. И спорили при этом с сотериологической точки зрения. Богословие антиохийцев можно определить, прежде всего, как своеобразный антропологический максимализм, как преувеличенную самооценку человеческого достоинства. Этот максимализм теоретически обострился, вероятно, в спорах с Аполлинарием, — в противоборстве против аполлинаристического минимализма в антропологии, с его брезгливостью и гнушением человеком, что вело Аполлинария к обрезанию, к усечению человеческого естества во Христе. В аполлинаризме сказывалось преждевременное и чрезмерное самонедоверие человека, преждевременное самоотречение и чрезмерная безнадежность. Человеческое казалось слишком немощным и низменным, чтобы быть достойным «обожения». Но антиохийская реакция против этого неправедного антропологического самоуничижения питалась непреображенным гуманистическим оптимизмом, вероятно, стоического происхождения. Не без основания несторианство уже в древности сопоставляли с пелагианством (срв. к Мария Меркатора). Здесь есть несомненное психологическое сродство, если и не генетическая связь. Из такого самочувствия легко было сделать сотериологические выводы. С одной стороны, «спасение» сводилось к простому освобождению человеческого естества, к его восстановлению в естественных, имманентных мерах и силах, in puris naturalibus, — антиохийцы редко говорили об «обожении…» С другой, спасение казалось осуществимым «естественными» силами человека, — отсюда так ярко в Антиохийском богословии развивается учение о человеческом подвиге и возрастании Христа. И Христос открывался для «восточных», как Подвижник, и в этом смысле, как «простой человек». Эти антропологические предпосылки мешали «восточным» с точностью разглядеть и описать единство Богочеловеческого лика. Во всяком случае, они склонялись, так сказать, к симметрическому представлению «двух природ» во Христе, и с торопливой подозрительностью считали всякую асимметрию еретическим «слиянием». Между тем, именно ассиметрический диофизитизм есть православная истина. Соблазн «Востока» не в «разделении» естества, но именно в их симметрическом уравнивании, что и приводит к двоению Божественного лика, — к «двоице Сынов…» Парадоксальная ассиметрия Богочеловеческого лика заключается в том, что человеческое естество в Богочеловеческом единстве не имеет своего «лица», своей «ипостаси», что оно воспринято в ипостась Бога Слова, — почему нужно говорить: Воплощенное Слово, и нельзя сказать: Богоносный человек. Этого антиохийцы не могли понять… Православный ассиметрический диофизитизм тесно связан с сотериологической идеей «обожения», как преображения или «оживотворения» человека, что вполне ясно у св. Кирилла. Это нисколько не усекает человеческой полноты, но, без всякого принижения человеческого достоинства, означает, что человеку предлежит сверх-человеческая цель и предел, что он должен превзойти человеческую меру или «меру естества», — в преображении, в соединении с Богом… Полнота человеческого естества, не превращающегося в иное, но размыкающегося в «обожении», — этого не могли понять и признать минималисты в антропологии, — аполлинаристы и монофизиты. Они не умели мыслить это «размыкание» человеческой самодостаточности иначе, как «превращение», как выпадение из мер естества, своего рода (греч.). Они преувеличивали несоизмеримость человеческого во Христе с человеческим в нас, в «простых людях…» По другим мотивам не могли понять и принять «ипостасного» единства антропологические максималисты, — как и «обожение», оно означало для них слишком много, больше, чем того требовал и допускал их религиозно-сотериологический идеал… В Эфесе не было совершено ни несправедливости, ни ошибки. Несторий был осужден и низложен с основанием, и его осуждение было трагическим предупреждением об имманентных опасностях «восточного» богословия. История «восточного» богословия собственно и оканчивается на блаж. Феодорите. Историческая нить обрывается. Путь оказался тупиком… И если после Эфесского собора разделившиеся епископы воссоединились на основах догматической формулы, изложенной в терминах «восточного» богословия (как впоследствии и Халкидонский орос), это не означало ни победы, ни «реабилитации» Антиохийской школы. Ибо смысл формулы определяется ее истолкованием. И это истолкование, данное Церковью, вполне исключает «восточный» максимализм. — Книга о. д’Алеса только вводит в историю этих болезненных и тревожных споров. Но в новейшей литературе это, быть может, одна из лучших книг по истории христологических движений в древней Церкви.