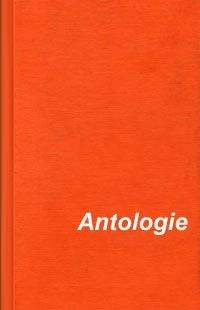Владимир Соловьев - Жизненная драма Платона
Новые времена стараются, хотя и не всегда и не везде успешно, отнять у божества полицейскую функцию, а у полиции — божественную санкцию. Задача трудная. В те времена она и не ставилась. Самая эта слитность первобытной религии с политикою, или полицией, была такая своеобразная, так видоизменяла оба элемента, что нам почти невозможно составить о ней живого представления. Как вода в своих конкретных свойствах нисколько не похожа ни на водород, ни на кислород, отдельно взятые, так религиозно–полицейский строй древней жизни вовсе не напоминал ни религии, ни полиции в нашем смысле этих слов. И если главные боги отеческие по существу были городские стражи, то и человеческие стражи города (φυλακες Платоновой Политии) были по существу божественны, еще более, конечно, нежели Одиссев"божественный"свинопас Эвмей.
Такая нетронутая, райская цельность жизненного сознания не могла быть долговечной. Она держалась на факте непосредственной и безотчетной веры людей: в действительность и силу родовых и городских богов, в святость и божественность родного города. И с какого из двух концов ни поколебать эту двойную веру — рушится зараз все здание. Если боги отеческие не действительны, или бессильны, то откуда святость отеческих законов? Если законы отеческие не святы, то на чем зиждется предписанная или отеческая религия? Итак, нужно, чтобы двойная вера, на которой держится бытовой уклад данного общества, была неприкосновенна вполне. Но как же это сделать? Вера, когда она есть только факт, принятый чрез предание, есть дело чрезвычайно непрочное, неустойчивое, всегда и всем застигаемое врасплох. И слава Богу, что так. Исключительно фактическая, слепая вера несообразна достоинству человека. Она более свойственна или бесам, которые веруют и трепещут, или животным бессловесным, которые, конечно, принимают закон своей жизни на веру, "без размышлений, — без тоски, без думы роковой, — без напрасных, без пустых сомнений".
Я сказал о бесах и животных не для красоты слога, а для исторического напоминания, а именно что религии, основанные на одной фактической, слепой вере или отказавшиеся от иных, лучших основ, всегда кончали или дьявольскою кровожадностью, или скотским бесстыдством.
II
Слепая и безотчетная религия обидна прежде всего для своего предмета, для самого божества, которое не этого требует от человека. Как безграничное Благо, чуждое всякой зависти, оно хотя дает место в мире и бесам и животным, но радость его не в них, а в"сынах человеческих"; и чтобы эта радость была совершенною, оно сообщило человеку особый дар, которому завидуют бесы и о котором ничего не знают животные. Важны, конечно, те дары, посредством которых создался первоначальный внешний образ человеческой, сверхживотной жизни, — то, что мы называем образованностью. Не было бы ее без огня и земледелия."Великие благодетели человечества — Прометей, Деметра и Дионис. Но"трижды величайшим"называется и есть отец наш Гермес Трисмегист. В телесный образ человеческого общежития он вложил его живую душу и двигательницу жизни — философию — не для того, чтобы даром и в готовом виде получил человек вечную истину и блаженство, а для того, чтобы трудовой путь человеческий к истине и блаженству огражден был с двух сторон — и от суеверного демонского трепета, и от тупой животной безотчетности".
Вот почему люди, поддавшиеся той или этой темной силе, люди потемневшие и других старающиеся потемнить, — за что они справедливо и называются obscurantes, — постоянную свою и упорную, хотя бесплодную ненависть сосредоточивают именно на философии, будто бы подрывающей всякую веру, тогда как по правде философия подрывает и делает невозможною только темную веру, ленивую и неподвижную. Эту заслугу философии высоко ценили носители истинной светлой веры, находившие, как известно, что философия для эллинов имела то же значение, как закон для иудеев, — значение провиденциального руководства при переходе из тьмы язычества к свету Христову, причем они допускали, что и в язычестве не все было только тьмою. Для темной веры греческая философия, как впоследствии и христианская религия, казалась атеизмом. Между тем уже первый родоначальник этой философии, Фалес, как говорит древнее известие, объявил, что"все полно богов". Но для ревнителей отеческой религии это было слишком много. На что им эта полнота богов? Они почитали лишь своих нужных для текущей жизни гражданских и военных богов, а до божественного содержания"всего"им решительно не было никакого дела. За своих богов ручались свои отеческие предания и законы, а что ручалось за полноту вселенских? Мысль Фалеса? Но вот мысль других философов — Ксенофана, Анаксагора — идет дальше и открывает другое. Они отвергают всякую множественность богов, и на ее месте у первого является божество как абсолютно единое, а у второго — как зиждительный ум вселенной. Для охранительного ума толпы и се правителей это уже было явное потрясение основ и вызывало соответствующее противодействие.
III
Философы впервые произвели существенный раскол в греческой жизни. До них могли существовать по городам лишь партии, так сказать, материальные, вытекавшие из столкновения и борьбы чисто фактически образовавшихся общественных групп, сил и интересов. Принципиального противоречия между ними не было, ибо все одинаково признавали один принцип жизни — отеческое предание. Никто на него не покушался, и за отсутствием принципиальных разрушителей не могли явиться и принципиальные охранители. Они неизбежно явились, как только философы коснулись святыни отеческого закона и подвергли критике самое его содержание. Повсюду в Греции возникают двеформальные партии: одна, по принципу, охраняет существующие основы общежития, другая — по принципу же — их колеблет. Первые победы везде принадлежали охранителям. Их принцип опирался на инстинкт самосохранения в народных массах, на всю силу противодействия хотя уже тронувшихся, но еще не разложившихся общественных организмов. Самая близость разложения обостряла охранительные вожделения страхом за их безуспешность."Не смейте этого трогать, а то развалится". — "Но достойно ли оно охранения?" — "Не смейте спрашивать! Оно достойно уже тем, что существует, что мы к нему привыкли, что оно свое; и пока мы сильны — горе философам!"Те могли отвечать на это:"Велика истина, и она пересилит!", но в ожидании этого Ксенофан всю жизнь бродил бездомным скитальцем, а Анаксагор лишь благодаря личным связям избег смертной казни, замененной для него изгнанием. Но в судьбе Анаксагора уже предчувствуется победа философии.
Этот главный предшественник Сократа, из ионийских Клазомеон в Малой Азии, пришедший в Афины, где стяжал и славу и гонения, отмечает собою переход древней философии с места ее рождения в торговых греческих колониях к истинному средоточию эллинской образованности, где, несмотря на гонения, философия стала настоящей общественной силой всеэллинского, а затем и всемирно–исторического значения.
IV
Не по случайности эмпирической эллинская философия возникла в колониях, а расцвела в Афинах. Если купцы–мореходы, которыми основался и жил рой греческих колоний, неизбежно разбивали замкнутость традиционного отеческого уклада и, принося в родной город знакомство со многим и разнообразным чужим, давали способным умам материал и возбуждение к сравнительной оценке"своего"и"чужого", к необходимому суждению и возможному осуждению, чем во всяком случае подрывалась непосредственная вера в безусловное значение"своего"как такого и вызывалось философское стремление к внутренней правде, то с другого конца такое действие мысли, возбужденной сопоставлением различных законов жизни, сосуществующих в познанном просторе мира, — такое критическое действие зародившейся мысли получало новую силу и новое оправдание там, где исключительность царящего закона жизни разбивалась еще и в порядке временной смены — утверждением и упразднением законоположений по изменчивой воле народного множества, как оно было в подвижной афинской демократии.
Колониальным грекам условность отеческого закона открылась в пространстве, афинянам — во времени. Если любознательный мореплаватель начинал скептически относиться к традиционному отечественному строю потому, что слишком много видел другого разного на чужбине, то афинский гражданин, и не выходя из родовых стен, и не глядя на"чужое", должен был усомниться в достоинстве и значении"своего", так как оно слишком часто менялось на его глазах и даже при его собственном участии. Это не мешает любить родину, может быть, даже усиливает любовь к ней как к чему‑то совсем близкому, животрепещущему; но религиозное, благоговейное отношение к народным законам как к чему‑то высшему и безусловному непременно должно при этом пасть под первыми ударами критической мысли. Сюда вполне приложима насмешка библейского писателя над идолопоклонником, который собственными руками возьмет кусок дерева, мрамора или металла, сделает из него статую, а затем приносит ей жертвы и мольбы, как богу. Закон — как произведение неустойчивой воли, мнения и прихоти людей — не более заслуживает поклонения, чем вещественное изделие рук человеческих.