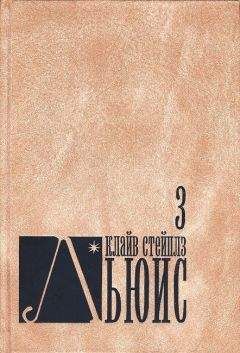Гилберт Кийт Честертон - Писатель в газете
Странной, на первый взгляд, представляется и попытка Честертона обосновать преимущества развлекательной литературы над серьезной. Кажется, цель, которой задался автор, совершенно недостижима. Более того, в самой постановке вопроса видится пристрастие Честертона к поэтизации повседневности, к уходу от реальности в мир вымысла, причем самого низкопробного. Между тем проблема в том виде, в каком ее представляет Честертон, оказывается куда сложнее. Во–первых, выясняется, что речь идет не столько о серьезной литературе вообще, сколько о литературе эстетской. Во–вторых, под «дешевым чтивом» (эссе написано в начале века) Честертон понимает литературу более высокого уровня, чем ту, что принято понимать теперь под «массовой». Наконец, и это самое главное, Честертон ставит перед собой цель не столько превознести дешевую мораль развлекательных серий, сколько показать то разлагающее влияние, которое оказывает эгоцентричное и декадентское мироощущение на общественные устои. Разумеется, Честертон несколько приукрасил «здоровую» мораль комиксов, но от этого значение его страстной инвективы не менее важно. Актуален смысл его эссе и по сей день, ведь со временем легкая развлекательная литература, впитав в себя все худшее из «светской» культуры (термин Честертона, которым он определяет «образованную» культуру в противовес естественности и неискушенности читательского вкуса), предстала в той же Англии беспринципным, аморальным и безграничным в своем влиянии массовым чтивом. Поневоле вспоминаются слова Честертона: «До тех пор пока разлагающее влияние светской культуры не коснется здоровой и грубой плоти популярной беллетристики, ее нравственные принципы не будут поколеблены». Только такой неисправимый оптимист, как он, мог верить, что этого никогда не случится.
С мыслями Честертона часто бывает трудно согласиться, но им никак не откажешь в одном неоспоримом достоинстве: они всегда заставляют думать. Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым, он невольно увлекает изящной логикой рассуждения, остротой поставленной задачи и парадоксальным блеском ее решения.
Цель этого сборника — познакомить советского читателя с образцами публицистики Честертона, острого, наблюдательного, местами весьма противоречивого мыслителя и журналиста, блестящего стилиста, для всего творчества которого характерен последовательный демократизм эстетических принципов, этических установок.
ИЗ КНИГИ «АВТОБИОГРАФИЯ» (1936)
ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ КЛЮЧОМ
Самое первое из моих воспоминаний — молодой человек на мосту. Был он важный, чуть ли не спесивый, с завитыми усами, в большой короне, золотой или золоченой, и держал огромный ключ из блестящего металла. Мост, по которому он шел, начинался у края страшных гор, чьи вершины терялись вдали, кончался же у башни зубчатого и на удивление гордого замка. В башне было окно, а из окна смотрела девица. Я не помню ее лица, но готов сразиться со всяким, кто усомнится в ее несравненной красоте.
Если мне возразят, что подобные сцены нечасто встречались в домах жилищных агентов, проживавших на севере от Кенсингтон–Хай–стрит в конце семидесятых годов [1], я должен буду признаться, что видел и мост, и башню в окошке, которое много чудесней башенного, — на сцене кукольного театра, который соорудил мой отец. Если же дотошный читатель спросит меня о человеке в короне, я сообщу, что был он шести вершков росту и по рассмотрении оказался картонным. Тем не менее я не солгал, назвав его первым моим воспоминанием — именно тогда мои глаза открылись и впервые увидели мир. Для меня эта сцена предельно истинна, неописуемо первоначальна; она живет в глубине моей памяти, словно самый задний задник театра действительной жизни. Я не помню, что делал человек на мосту и зачем он держал ключ, но с тех пор я узнал немало менее радостных книг и сказок и могу предположить, что он шел освободить девицу из неволи. Тем, кто любит психологические детали, будет небезынтересно, что я не запомнил других персонажей, но хорошо знаю, что, кроме короны, у моего человека были усы; кроме того, там был кто–то еще, постарше, тоже в короне. У него была борода. Это, очевидно, был злой король, и, мне кажется, мы не ошибемся, если предположим, что именно он запер девицу. Все остальное — сюжет, декорации, роли — исчезло, словно его и не было, одна эта сцена сияет в моей памяти отблеском немыслимого рая. И я уверен, что буду помнить ее, когда забуду все остальное.
Однако я начинаю с нее не только потому, что это первое мое воспоминание. К счастью, я не психолог, но, если психологи твердят теперь то, что говорили всегда нормальные люди: первые впечатления очень важны, — я могу увидеть в этом некий символ того, что я потом особенно ценил. Всю жизнь я любил края, грани, отделяющие одну вещь от другой. Всю жизнь я любил рамки и постоянно твердил, что самая широкая ширь еще величественнее, когда ее видишь в окно. К великому огорчению театральных критиков, я и сейчас считаю, что драма должна еще подняться до высот кукольного театра. Люблю я и расщелины, и бездны, и вообще все, что подчеркивает разницу между предметами; а мосты я люблю потому, что их темные, головокружительные пролеты увеличивают ширину пропасти еще больше. Я уже не вижу, какой была девица, но знаю, что она прекрасна, иначе принц не пошел бы к ней по шаткому мосту. Все это я чувствовал в раннем детстве и твердо верю, что уже тогда я знал то, что много позже оказалось истиной, о которой я и спорю с психологами, приписывающими особую важность окружению и предметам. Мне скажут, что мосты и окна таинственны и прекрасны для меня потому, что я «видел их модель в детстве»; но я посмею возразить, что мой собеседник не продумал свою мысль до конца. Во–первых, и в те же годы, и позже я видел множество других вещей, но почему–то выбрал именно эти. А второе еще очевидней: хорошо, это было в детстве, но что с того? Если вдумчивый читатель брошюр о детской психологии уличит меня и скажет: «Вы любите эту мишуру, всех этих кукол, потому что ваш отец показывал вам кукольный театр», я отвечу со всей христианской кротостью: «Ну конечно, мой глупый друг! Конечно, так оно и есть. Вы объяснили на свой хитрый лад, что эти вещи были связаны для меня с радостью, ибо я был счастлив. Но вы и не думали, откуда пришло это счастье. Неужели желтый картон, который видишь в квадратном отверстии, всегда, в любые годы, способен вознести душу на седьмое небо? Почему это особенно важно в ту пору? Вот что вам нужно объяснить. Но никто на моей памяти не сумел объяснить это разумно».
Простите меня за отступление и за упоминание о детской психике и о других подобных предметах. Я смущен… Но именно здесь наши психоаналитики выдумывают без малейшего стыда. Я не хочу, чтобы мне приписали дикое, нелепое мнение; я не считаю, что наши взгляды и вкусы зависят только от обстоятельств и никак не соотносятся с истиной. Хоть это и раздражает людей свободомыслящих, я все же позволю себе мыслить свободно. А всякий, кто подумает хотя бы две минуты, поймет, что вышеизложенная мысль — конец всякой мысли. Кто смеет уличить другого в заблуждении, если все наши взгляды — заблуждения? Зачем спорить, если все наши доводы — только следствие обстоятельств?
Вступление кончено, спасибо. Перейду к более конкретным связям между моей памятью и моей жизнью. Для начала я остановлюсь на памяти как таковой, на том, можно ли ей верить. Я начал со сказки в кукольном театре еще и потому, что это воспоминание особенно четко сочетает все, что воздействовало на меня в детстве. Как я уже сказал, театр сделал мой отец. Всякий, кто пытался соорудить такие декорации или поставить такую пьесу, знает, что это одно говорит о незаурядном умении. Здесь надо быть не просто хорошим театральным плотником, но и архитектором, и инженером, и чертежником, и живописцем, и сказочником. Оглядываясь на свое прошлое, вспоминая свои неумелые попытки стать художником, я чувствую, что жизнь моя много скуднее, чем жизнь моего отца.
Одно упоминание о нем вызывает из небытия множество воспоминаний. Среди самых первых есть такое: я играю в саду со златокудрой девочкой, а после мама говорит ей, выйдя к дверям: «Ты просто ангел», и я понимаю это буквально. Теперь эта девочка живет в Ванкувере и зовется миссис Кидд; и она, и ее сестра внесли много радости в мое детство. С той поры я не раз беседовал с теми, кого называли лучшими умами века, но ни одна беседа не была так умна и значительна, как наша беседа в саду. Помню я и море, синими вспышками озарявшее детство моих сверстников, и Норт–Бервик [2], где верхушка зеленой горы казалась мне верхом совершенства, и пляж во Франции, где я играл с дочерьми папиного друга. Помню целую стаю двоюродных братьев и сестер; у дяди Тома Гилберта, моего крестного, давшего мне свое второе имя, было много дочерей, а у дяди Сидни — много сыновей, и все мои кузины и кузены маячили в глубине моего детства, словно мужской и женский хоры греческой трагедии. Самый старший из мальчиков погиб на войне, как и мой брат. Прочие, счастлив сообщить, живы; они и сейчас не только родственники мне, но и друзья. Все это важные воспоминания. Воспоминание о девочке довольно раннее; у моря я бывал позже и помню его хуже, оно как–то стерлось или, вернее, растеклось. Но все они не разрешают проблему памяти о прошлом.