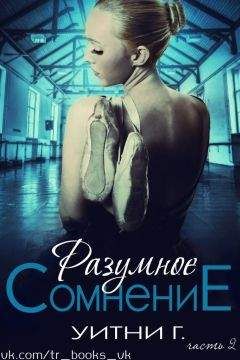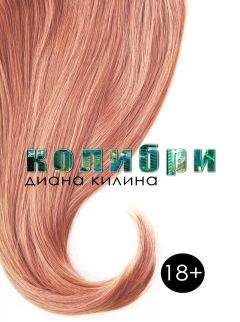Пьер Шоню - Во что я верую
Я не перескакиваю от общего к частному, я не верю в системы, которые выводят опыт моего самосознания и ощутимого мира, в котором я пребываю, из какой-то системы истолкования мира. Для меня предпочтителен путь в обратном направлении: от частного к общему, от достоверности к неуверенности. Индукция представляется мне способом более надежным, чем дедукция, и я никогда не променяю ястреба на кукушку.
Как и все живые существа, я привязан к своей берлоге. Я люблю свою семью, свой дом, люблю без всякого на то принуждения тех, с кем обычно встречаюсь; я не могу пресытиться ни людьми, ни вещами. Чем больше я их узнаю и имею с ними дело, тем дороже они мне становятся. Я неохотно расстаюсь с воспоминаниями, точно так же как по своей природе я склонен оставаться там, где нахожусь. А будучи историком, я по своей природе подвержен искушению оправдывать эту склонность своего характера прошлым всего рода человеческого.
У этого вкуса к домашнему очагу — очень далекие истоки, куда более древние, чем сам человек. У наиболее сложных животных есть свои ареалы обитания. У всех охотников есть привычные места охоты, где у них — своя «берлога»: «дичь, ставшая дикарем», научилась охотиться, да еще сообща, что усовершенствовало ее навыки: так, потребность в собственном логове коренится в той части нашего существа, которая восходит к временам намного более ранним, чем первая могила, к «до-истории», протекавшей миллионы лет назад.
Эта черта вполне сложившегося человека не слабеет. Более того, всё ее усиливает. Прежде всего, незащищенность беременной женщины. Стоит ли напоминать о том, как наш объемистый мозг бросил вызов рождению: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей», — гласит книга Бытия (3: 16). Объемистый мозг подвергает тазовый пояс конечностей женщины опасному испытанию: ведь у новорожденного объем черепа — ограниченный: лишь 23 % от этого объема у взрослого; а у обезьян он составляет 60 %. Иначе говоря, тесно сжатые нейроны человеческого мозга должны получать более свободное развитие в три первые года жизни, образующие за пределами материнского чрева как бы продолжение «внутриматочной жизни», когда овладение речью приводит к образованию пар нейронов. В этом — одна из причин сказочных успехов, достигнутых в эпоху неолита; всё, что относится к корням человека, охраняет и обогащает его. Биологической необходимостью становится защита женщины и ребенка от бесприютности при рождении. Биоантропологи, изучавшие наши истоки, отметили необычность почти постоянной способности женщины к зачатию, равно как и присущего только человеку фронтального коитуса. «Это животное пьет, не испытывая жажды, и занимается любовью во всякую пору», говаривал всеведущий Вольтер, легкомысленная усмешка которого плохо скрывает тревогу. Тяжкое бремя воспитания, всё возрастающее давление культурной памяти, прохождение этапа культуры, когда все наши усилия уходят, в конечном итоге, на программирование и на перепрограммирование, карают за бесприютность.
Нужда обрекает нас на оседлость. Привязанность к своему жизненному пространству ощущается у крестьян, получающих больше от природы, на которую оказывается удачное воздействие, еще сильнее, чем у охотников. Всё происходит так, как если бы по мере своего сужения пространство сосредотачивало в себе всё больший эмоциональный заряд. Обработанная земля — не дар природы; крестьянин привязан к плодам рук своих; то же можно сказать и о его предшественниках, память о которых он хранит, и эта память, благодаря устной традиции, охватывает целый век.
Я вышел из крестьянского рода с двойной основой. С одной стороны, это граниты и гнейсы Лимузена, одной из земель, заселенных с самых давних пор. Родные места семьи моего отца — неподалеку от Ла Ша пелль-о-Сен[88] с ее могилой, вырытой примерно 45 тысяч лет назад — одной из пяти древнейших могил, официально зарегистрированных как таковые. С другой — это иная Галлия, Галлия open fields — открытых полей, привычных для народов, пришедших с Дуная по крайней мере 6–7 тысяч лет назад и обладавших более совершенными приемами обработки земли. У края возвышенности Мёзы я нахожу виноделов, для которых оседлость особенно характерна; ведь нужны века, чтобы развести виноградник. В краю виноградарей воздействие человеческой руки особенно заметно. Больше других крестьян привязаны они к земле: ведь они всю её в буквальном смысле притаскивали на своих спинах, особенно вечерами после грозы, когда земля сваливается с холма, на который ее приходится таскать обратно целыми мешками.
Разумеется, эта история не вписана в наши хромосомы, поскольку наша биологическая память чрезвычайно ограничена: мы умеем формировать свое тело, мы умеем вырывать у внешнего мира свою сущность, то есть то, чем мы непрерывно становимся. Мы умеем делать это, не штампуя безликие копии. «…Еле заметные изменения преобразуют природу и строение аминокислот, из которых состоят протеины нашего тела…»[XXXV]. Не существует двух полностью подобных гемоглобинов. Подпись на картине моего тела поставили очертания моего носа, контур ушной раковины, узоры на коже пальцев, используемые в судебной практике при установлении личности. Все 10[11] нейронов моего мозга отличаются от 10[11] нейронов вашего мозга, а в основе всего этого — мой собственный генетический код, неповторимый, как и я сам. Уж не эта ли химия, накладывающая свою метку на мое существо в самых потайных его основах в знак моей неповторимости — такой, что Бог, которому не под силу утратить меня, сохраняет меня, «мои обстоятельства» и мою временную протяженность, что превращает мое будущее в прошлое, внутри вечной своей памяти, — уж не эта ли химия порождает во мне гипертрофированное, неистребимое чувство «берлоги»? — Возможно. Но гораздо больше к этому приводит пресловутая передача «из руки в руку», присущая культурной памяти, памяти о мраке времен, завещанной мне той, что склонялась над моей колыбелью. Именно посредством воспитания, речи, поступков первых лет жизни передаются таким образом из поколения в поколение следы и наваждения первобытных эпох.
Все люди любят родные места, дома, семейную обстановку. Я из тех, кому это чувство особенно близко, оно стало как бы моей второй натурой. У меня есть корни, и мне кажется, что это черта людей из моих краев.
* * *
Если нас так волнуют места, то это оттого, что с ними связываются присутствие и воспоминание, эта разновидность присутствия тех, кого мы любили. Подумайте и о могиле. Я родом из того мира — так хорошо описанного Филиппом Арьесом[89] — где царил культ кладбищ. Незадолго до 1930 года, когда предстояло открытие усыпальницы в Дуомоне[90], Верден сыграл роль Сантьяго-де-Компостелы[91] для внецерковных христиан, роль центра республиканского культа кладбищ. Возможно, именно из духа противоречия я почти не испытываю потребности предаваться размышлению над чьей-то могилой, но я вполне понимаю это чувство у других людей. Оно мне, стало быть, понятно, и я чту его и уважаю как выражение духовного здоровья, искренности, стремления к порядку и сплоченности.
Могила: эту присущую нам потребность в каком-то месте, в клочке земли, который достоверно хранит останки того, что было телом, эту присущую нам потребность, чуждую мне, я ощущал у ряда любимых и почитаемых мной людей. Их потребность и ее выражение научили меня любить те действия, с которыми в таком множестве я сталкивался в детстве. Могила, невозможность посетить захоронение близких — со всем этим мне самому довелось иметь дело самым непосредственным образом, когда я оказался среди французов, репатриированных из Северной Африки. Поистине, утрата этого добра было и остается единственным, что делает их безутешными в полном смысле слова. Им был нужен этот клочок земли. И на наши кладбища из Северной Африки доставляли полные лопаты земли, над которыми воздвигались простые, смиренные, бередящие душу памятники умершим родным. Моей соседкой была крестьянка из округи Ож. В 1962 году ее сын — священник-католик — погиб от несчастного случая. Больше у нее не оставалось никого. В течение всех своих последних пятнадцати лет жизни эта набожная женщина высокой души и нравственности (которая в своей вере могла бы почерпнуть куда более красноречивое успокоение, чем то, что она и так носила в своем сердце), каждодневно приходила молиться и ухаживать за цветами на место захоронения останков сына.
Крестьянская привязанность к местам сродни, привязанности к могиле; места — читайте Френсис Э. Йейтс — это сопутствующие им воспоминания, и в этом — тайна великого искусства античной риторики. Не знаю ничего более мучительного, чем постепенно тускнеющий в памяти облик близкого вам человека, которого уже нет в живых. Вы чувствуете себя предателем.