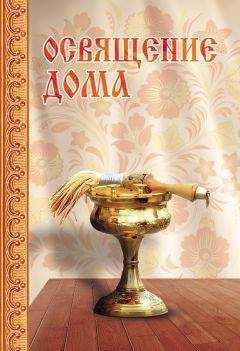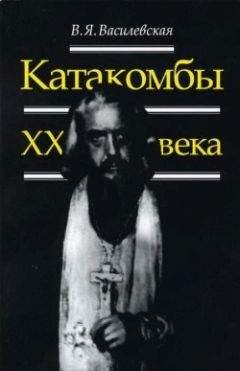Вениамин Милов - Дневник инока
Мой духовный сдвиг, конечно, не мог пройти бесследно прежде всего для характера и содержания моих проповедей. Это заметили и монахи, и прихожане. Любимой темой моих церковных бесед стало раскрытие учения о милосердии Божием, покаянии, пользе скорбей и толкование Священного Писания. Когда‑то я лелеял мечту, в целях овладения ораторским искусством, поучиться в театральной или декламаторской школе. Господь же явил мне, что ценность и сила проповеди зависит не от внешних приемов, а всецело от благодати Божией. Бог — Учитель веры. Он же Помощник и в произнесении слова. Кто из проповедников искренен и говорит от силы Божией, у того слова не скованы, упорядочивается и изъяснение святого учения.
20 мая 1928 года
Благодарю я Господа за пути Его Промысла."От Господа стопы человеку исправляются"(Пс. 36, 23), — сказал Псалмопевец. Поистине водительство Божие сказывалось все годы, прожитые мною в Покровском монастыре. Как орел носит птенцов своих на крыльях, покрывает и защищает от всех врагов, так Бог в саду Покровской обители десять лет долготерпеливо, ради Своего милосердия и молитв Пренепорочной Девы Марии, хранил мою немощь.
Душа моя до сих пор исписана безобразными узорами страстей и достойна правосудной казни. Между тем Господь не отверг меня от Своего престола и все означенное время ежедневно допускал до совершения литургии и причащения Святых Тайн. За всенощной я обычно управлял народным и монашеским хорами; литургию же служил. Привычка абсолютно молчать в часы совершения Бескровной Жертвы помогла мне почерпать духовное утешение в литургисании, оживляться благодатной силой, приобретать навык молиться. Иногда литургия с полунощницей тянулась часа четыре–пять. А время пролетало быстро — не заметишь. Литургия даже самого недостойнейшего священника делает лучше, добрее, отзывчивее, осторожнее в поступках. С недостоинством внутренней страстности и я дерзал приступать к Господу, и по неизреченной милости Он щадил мое убожество. При возглашении ектений об удалении из церкви оглашенных я чувствовал, что по душевному настрою мне далеко и до оглашенных. Первого надо бы изгнать из церкви меня, приближающегося к престолу Всевышнего. Бог не щадил лен курящийся, трость надломленную (Ис. 42, 3. Мф. 12, 20) моего сердечного устроения, хотел извлечь честное из моего недостоинства. Незаметно Он привел меня к покаянному порыву, в результате десятилетней службы в обители расположил ко мне молящихся в храме, вводил в соприкосновение с людьми хорошего духовного настроя.
Упомяну ряд встреч в Москве, плодотворно повлиявших на меня. Ко мне часто заходил архиепископ Черниговский Пахомий[85]. Простой и чистый, он весь предавался какой‑то детской радости, хотя окружающая жизнь в ту пору была весьма и весьма скорбной. Преосвященный Пахомий увлекался поэзией, любил декламировать стихи, воспевающие природу, делился своим знанием смысла некоторых малопонятных мест Священного Писания. Иногда в состоянии добродушия он цитировал примечательные места из отеческих творений. Господь судил побывать у меня в Москве и Никандру, митрополиту Ташкентскому[86], у которого в свое время я был книгодержцем. Я чутко вслушивался в его речи о Моисеевом бытописагнии и о различных богословских вопросах. Весьма ценным качеством его служений была великая осторожность в рассмотрении истин. Уж если что услышишь из его уст, так это можно принимать спокойно.
Но ближе всех ко мне, пожалуй, был Арсений[87], архиепископ Царицынский. Ходил он в наш монастырь часто и служил у нас по праздникам. Более тактичного, сдержанного человека я не встречал. Мед знания он собирал не только с цветов отеческих творений.
Это была разносторонняя натура, он был знаком с произведениями и светских писателей — русских и иностранных. При всем том Преосвященному Арсению были не чужды мистический взгляд на православную веру и высокий молитвенный порыв. Благодать Божия растворяла в нем здоровый жизненный практицизм и постепенно возвышала его до уровня"совершенного человека, на всякое благо дело уготованного".
То в Даниловом монастыре, то в Покровском за десять лет мне неоднократно приходилось встречаться с рядом епископов. Из них архиепископ Феодор выделялся глубиной умозрительного усвоения христианства; Аверкий, архиепископ Житомирский, — детской невинностью; Амвросий, епископ Вологодский, — жизнерадостностью; Прокопий, архиепископ Херсонский, — знанием важных мест из творений преподобного Ефрема Сирина; Амвросий, епископ Каменец–Подольский, — основательностью изложения нравственного учения христианства; Ириней, епископ Елабужский, — сердечностью; Иринарх, епископ Киришский, отличался благодатностью проповеди; Герман, епископ Волоколамский, — юношески пламенным раскрытием опытного постижения веры; Варлаам, архиепископ Псковский, — старчески мудрым характером проповеди и подходом к каждому человеку; Парфений, епископ Ананьевский, производил впечатление сурового аскета. Были впечатления и иного толка. Так, Иларион[88], архиепископ Верейский, запомнился легковесностью слова; Иов, епископ Пятигорский, представлял собой довольно бесцветную личность; таков же был Валериан, епископ Проскуровский.
Несомненно благодатной и святой следует признать душу покойного Святейшего Патриарха Тихона. Его отличали легкость молитвы за богослужениями, чуждая всякой искусственной напряженности, юношеская подвижность и быстрота движений при свойственных Патриарху сановитости и величии, светлость одухотворенного лица. Он чем‑то напоминал святителя Московского Алексия. Служебные нужды нередко приводили меня к Святейшему. В обращении с посетителями он обнаруживал удивительную простоту, очаровывал всех небесной добротой и поразительной снисходительностью к недостаткам своей паствы. Мне он неизменно повторял:"Надо все терпеть: скорби очищают человека". Предполагал сделать меня своим викарием. Лишь мой отказ от лестного назначения воспрепятствовал моему перемещению в Сергиев Посад на викариатство. Господь судил мне послужить Святейшему уже по его кончине: я нес пред гробом то Евангелие, которое по нему читали три дня до погребения.
Пастырями чистой веры необходимо признать еще трех иерархов: Николая (Добронравова)[89], архиепископа Владимирского, — человека по убеждениям твердого, как гранит, и стойкого, как дуб; Петра, митрополита Крутицкого, и нашего настоятеля — архиепископа Гурия. С Преосвященным Гурием я прожил года три в одной комнате и узнал его довольно хорошо. Искренний до самозабвения, любитель веры и Церкви, труженик на ниве богословской науки, аскет высшей степени, монах в истинном значении этого слова, сильный волей при глубокой снисходительности к людям, бескорыстный и благородный душой, знаток практической жизни, тонкий психолог, душа, способная увлечь к святой жизни своим примером и словом. Архиепископ Гурий старался держать меня в рамках иноческого смирения, отсекать мои слабости и в этом отношении действовал иногда резко, решительно и утонченно. Правда, я, грешник, мало исправлялся, с трудом подвергался обработке. Бывало, прошу владыку:"Владыко, я исправлюсь. Все–все сделаю, что вы ни скажете, потерпите только немного мои недостатки, не могу сразу переломить себя". А он, улыбаясь, скажет то же самое словами епископа Феофана:"Еще минуточку погоди". Если он замечал, что по окончании проповеди я горжусь тем, как ее произнес, то спешил меня смирить. Например, гневно скажет:"Зачем, когда кланяешься, подгибаешь колени. Если замечу еще раз, то при всех поставлю на поклоны". Или идешь из церкви, а он с кем‑либо из публики разговаривает и вдруг громко позовет:"Эй, архимандрит, иди‑ка сюда. Ты исполнен самочиния. Почему сегодня не смотрел на своего настоятеля? Я за кафизмами стою, а вы все сидите. И первый пример подаешь ты". Или начнет бранить, почему мы, монахи, по традиции со второй недели Великого поста стоим без мантии и не подражаем ему, когда он имеет архиерейскую мантию. Однажды при всех поставил меня на поклоны за то, что уставщик выпустил чтение канона из молебна святому великомученику Феодору Тирону. Поклоны фактически я не клал из‑за чтения в алтаре опущенного канона. В другой раз я не затворил за собой дверь в нашу келлию и за это был наказан двадцатью пятью поклонами.
Преосвященный Гурий научил меня бережно обращаться с приношениями народа. Как‑то он заметил, что в нашем шкафу"зацвел"хлеб. Позвав меня, он строго и с потрясающе действенной силой отчитал:"Скажи, ты кто в отношении даров Божиих? Ты — приставник, и Господь потребует у тебя отчета в распоряжении приношениями". С этого времени я боялся пренебречь малейшим кусочком хлеба и старался отсылать через кого‑нибудь излишки продуктов нуждающимся.
Мудрый архиепископ Гурий знал и время, когда с пользой следует сказать мне вразумительное слово. Заметит, например, что я весел, беспечно разговариваю с ним, и тогда начнет перечислять мои недостатки один за другим. Только успевай слушать. Зато в подобный час обличение не убивало сердца, но беспрепятственно входило в сокровеннейшие тайники души. Обличал меня Преосвященный и с церковной кафедры. Однажды в великопостную субботу он произнес сильную проповедь на текст:"Аще ли кто назидает на основании сем злато, сребро, камение честное"(1 Кор. 3, 12)… И здесь изображал двоякую ценность проповеднических трудов учителей Церкви: сокровенно разил меня и вызывал в моей душе горячее самообличение. Он был недоволен также направленностью и характером моих поучений. Одно время я в проповедях не обращал внимания на насущные потребности слушателей, искал в книгах новые богословские мысли, излагал их в церковном слове для лучшего собственного усвоения. По данному поводу Преосвященный укоризненно выговаривал мне:"Удивительно нездоровый дух в твоих проповедях. Ты ищешь все чего‑то таинственного, копаешься в богословских мнениях, тогда как требуется более говорить о деле". Также терпеть он не мог моего привередничества в пище, употребления духов и роскоши в одежде, за что с неумолимой суровостью грозил всякими наказаниями. Остроумный и бодрый, он в некоторых случаях любил пошутить. Раз спрашиваю его:"Владыко! Кого из святых вы больше всего любите?". Он улыбнулся, посмотрел на меня и сказал:"Тебя!".