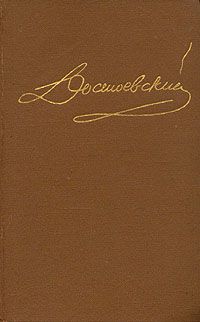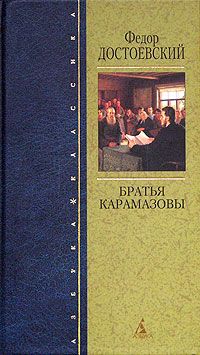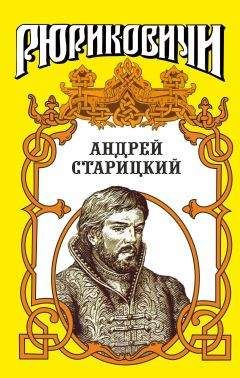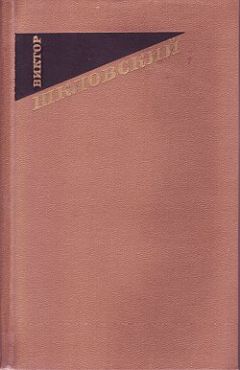Виктор Ляху - Люциферов бунт Ивана Карамазова
Эта повторяемость отдельных формул стала у Достоевского характерной особенностью повествования вовсе не случайно: сознательное нагнетение однокоренных слов в как будто бы хаотично сталкивающихся разнородных синтаксических конструкциях зримо являет лихорадочную сосредоточенность Алеши на занимающей его мысли. Лихорадке героя Достоевского соответствует в Евангелии инвективная напряженность наставления, с которым обращается к людям Христос.
Наконец, самым впечатляющим примером последовательного развития и воплощения своих раздумий о судьбах мира и человека в заведомых библейских параллелях (аллюзиях) разного типа, в том числе и, быть может, в особо весомых структурных параллелях, оказывается для нас сакраментальный эпизод с чтением «поэмы» о Великом инквизиторе. Имея в виду указать на очевидную соотнесенность сюжета «поэмы» с новозаветными ситуациями, мы хотим с самого начала оговорить, что вербальные и тематические переклички не менее существенны и органично взаимодействуют с глубинными структурными соответствиями. Последние отнюдь не явны, поэтому их выявление и тем более уяснение, трактовка предполагают обстоятельное разглядывание подробностей с учетом их непростого, неодномерного существования и функционирования в сложном симфоническом контексте целого. Таким впечатляющим примером принципиальной структурной ориентированности фрагментов романа Достоевского на библейский прецедент представляется нам следующая, можно сказать, магистральная перекличка. В Евангелии от Матфея мы находим следующий известный всем ревностным христианам ключевой эпизод.
Текст «Братьев Карамазовых»:
«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, – продолжает старик (Великий инквизитор. – В. Л.), – великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: „Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои“. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? (14, 229–230).
Библия:(Евангелие от Матфея):
«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф 1:1–11).
Ф. М. Достоевский принадлежал, как известно, к числу именно ревностных христиан, и, конечно же, был не просто знаком с представленным эпизодом, но дорожил им принципиально. Поэтому отнюдь не на периферии, а в самом что ни на есть эпицентре главного конфликта, в эпизоде напряженного противостояния самоотверженного устремления к Божественной истине и гибельного упоения интеллектуальным и моральным релятивизмом, цинизмом, в самой, на наш взгляд, взрывоопасной ситуации, адекватное переживание и осмысление которой по плечу не каждому читателю, автор «Карамазовых» сознательно, притом не как-нибудь уклончиво, а с откровенной прямотой эксплуатирует приведенный выше евангельский текст, когда предлагает вниманию Алеши и читателей романа «поэму» Ивана Карамазова о Великом инквизиторе.
Мы совсем не случайно назвали это именно «эксплуатацией». Забегая вперед, скажем, что совсем не трудно было бы указать здесь на те или иные вербальные и даже известные тематические переклички соответствующих романного и евангельского повествований (мы сейчас отвлекаемся от вопроса о принадлежности параллельных фрагментов тем или иным внутритекстовым субъектам повествования). Но дело по большому счету в общем-то не в них. На этом уровне можно было бы говорить не о сходстве только, но и о весьма существенных различиях, обусловленных, как мы понимаем, временными несовпадениями ситуаций (дьявол в Евангелии не говорит со Христом, по крайней мере явно, о свободе, не предъявляет Ему претензий за еще не выявившиеся результаты Его первого пребывания на земле, хотя держит в уме свой «прогноз» на этот счет, по-своему предвидит то, что полагает заведомо предопределенными результатами, кои со временем, по логике сатаны, изобличат несостоятельность Христа). Гораздо существеннее для нас в настоящем примере более принципиальные, глубинные структурные соответствия.
Мы усматриваем это родство в следующем: как в реально-сюжетном новозаветном повествовании, так и в виртуальном пространстве идейно-художественных спекуляций (тенденциозного, гипотетического моделирования), которым предается Иван Карамазов, Христос оказывается один на один со своим противником. Их только двое, и диалог их развертывается в пустыне (в метафизическом, так сказать, смысле): около них нет никого и ничего (подробности не существенны). Сама формула ситуации принципиально одинакова в обоих текстах.
Следующее измерение, в котором мы воспринимаем и осознаем капитальное сходство параллельных ситуаций, связано с характером позиций, в которых пребывают оппоненты, и линиями их поведения. Оба «Антихриста» лихорадочны, судорожны в своих наступлениях на Христа. За внешней яростностью, энергией как будто бы сильных логических ходов, уловок, каверз, коими должен быть как будто бы подавлен Богочеловек, Сын Божий, скрывается совершенно очевидная для нас внутренняя слабость врагов Спасителя, непрочность, смятенность их мысли. Такая именно позиция и порождает соответствующую линию поведения, участия в диалоге, а именно, то избыточное многоговорение, которое выдаёт собственную неудовлетворенность, тайное подозрение, что уже сказанное недостаточно и нуждается во все новых дополнениях, которые так-таки и не оказываются окончательными, вполне разрешающими идейный конфликт. Этому, как мы сказали, «избыточному многоговорению» противостоит принципиальный минимализм речений Христа (в романе Достоевского дело оборачивается практически полным молчанием), аксиоматически, что называется, удостоверяющий силу его настолько заведомую, что она не нуждается ни в каких доказательствах и обоснованиях.
Если Христос в Евангелии, пусть предельно лаконично, но всё же высказывается, то это не должно вводить нас в заблуждение. Этой подробностью не рушится, не отменяется принципиальное типологическое родство ситуаций в повествованиях евангелиста и русского писателя. Христос ведь по Матфею не о Себе говорит, не за Себя заступается – иначе говоря не утруждает Себя перед сатаной какими бы то ни было усилиями в логике самозащиты. Он только изобличает «диавола» в непристойной, можно сказать, вульгаризации им серьезных проблем, в методологической беспомощности, обрекающей его опускаться до более чем незатейливых софизмов, которые и не могут быть удостоены сколько-нибудь обстоятельных прений. Если входить в подробности того, что мы назвали «софизмами» сатаны, то главное здесь в том, что мы назвали бы «избирательным цитированием», иначе говоря, лукавой эксплуатацией текстов, к которым спекулятивно апеллируют дьявол и Великий инквизитор (наследник сатаны), он же Иван Карамазов. Христос в Евангелии прямо указывает на спекулятивную неполноту цитирования, напоминая, что «всяким словом, исходящим из уст Божиих, будет жить человек» (Мф. 4:4)
В романе Достоевского «Братья Карамазовы» в таком напоминании нет нужды. Здесь довольно того, что сам читатель, на специфическую осведомленность которого вполне определенно рассчитывает писатель, уже введен в пространство интертекстуального параллелизма и следовательно «обречен» вспомнить все составляющие параллелей, то есть и отследить спекулятивную неполноту откровенно своекорыстных пересказов евангельских историй Великим инквизитором.