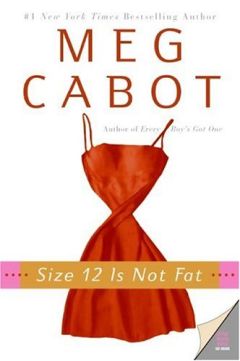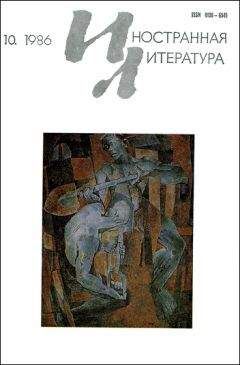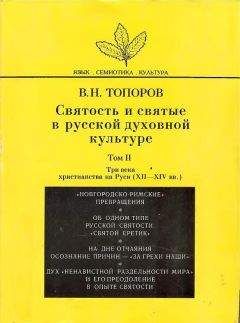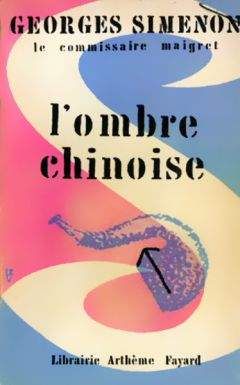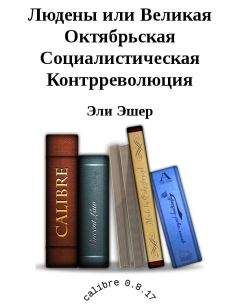Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.
Мозаичная композиция «Прогласа» и далекоидущие аналогии в построении этого словесного текста и композиционных схем мозаик дают основание поставить вопрос о том, как и насколько был осведомлен Св. Константин в мозаичном искусстве. Не приходится сомневаться, что первоучитель славян был восприимчив к изобразительному искусству и что зрительные образы имели большую власть над его воображением. Строго говоря, для такого общего заключения было бы достаточно отсылки к образной структуре «Прогласа» или напоминание о том сне в детстве, когда ему явилась Дева София–Премудрость. Но есть и некоторые другие предположения в связи с этой темой. Можно напомнить, что духовный подвиг Св. Константина начался в эпоху, когда иконоборчество уступило место иконопочитанию, окончательно восстановленному в 843 г., и совсем незадолго до утверждения на византийском престоле Македонской династии (867–1057 гг.), с царствованием которой связан один из наиболее удивительных взлетов искусства.
Вовлеченность Константина в борьбу с иконокластами и отстаивание им иконопочитания в этих условиях получают естественное объяснение и свидетельствуются прежде всего «Житием Константина». В этой связи особый интерес представляет фрагмент V, в котором излагается диспут с «Аннием», идейным возглавителем иконоборчества, смещенным с места константинопольского патриарха, которое он занимал в 837–842 гг. [103] Основной нерв этого спора — в понимании сути религиозного искусства, функции образа и функции художника, отношения к реальности во всей сложности составляющих ее слоев. Как известно, «Анний» начинает диспут с вопроса о том, почему если крест разбит на части, не поклоняются ему, в то время как иконопочитатели поклоняются «частичным» иконным образам (например, погрудным). Константин отвечает указанием на кардинальное различие креста и иконы: крест четырехчастен, и если отсутствует хотя бы одна часть, он теряет свой образ — «4 бо чясти крестъ имеетъ, и аще едина его чясть убудетъ, то уже своего образа не имеетъ, а икона тъ лица образ являетъ и подобіе того, егоже ради будеть писана. Не львова бо лица, ни рысьа зрить, иже видить, но пръваго образъ» (см. Лавров 1930:6–7). Оппонент Константина выдвигает новый аргумент, который должен поставить сторонника иконопочитания в сложные неразрешимые, безвыходные условия, как, вероятно, думал «Анний» — почему поклоняются кресту, даже если на нем нет надписи, хотя есть и иные кресты, с надписями, и почему не поклоняются иконе, если на ней не написано имени того, кого она изображает? Философ не обходит этот «сложный» вопрос, но, принимая его, именно на этой сложности строит сильную и глубокую конструкцию, основоположную в концепции, из которой исходит иконопочитание, — «всякъ бо крестъ подобенъ образъ имееть христову кресту, а иконы не имеютъ все образа единаго» (к разнице между формированием прототипа из типа и между единственностью и множественностью в «прототипической» сфере). Последняя попытка «Анния» спасти положение (едва ли он сам возлагал на нее большие надежды) — в ссылке на традицию, на запрет Бога Моисею: «не сотвориши всякаго подобіа». Ответ Константина, окончательно побеждающего в споре, прост и естествен: «аще бы реклъ: не сотвориши никакова же подобiа, то право приши; но есть реклъ: не всякаго, сиречь достоиное». И как итог всего спора–диспута — «Противу же сему не можетъ претися старецъ, умлъчя, посрамлься».
Последняя тема (подобие и его характер) снова возникает и конкретно разъясняется в диспуте Константина Философа с иудеями, выразившими удивление по поводу того, что, поклоняясь идолам, думают, что воздают честь Богу («Житие» X). Ответ состоит из двух частей. Первая, так сказать лингвистическая, отсылает к номиналистической проблематике — «первое ся научите разделяти имена, что есть икона, и что есть идолъ, и тако смотряще, не поступаите на христьяны. Десять бо именъ в вашемъ языце о семъ образе лежитъ». Вторая часть дает конкретно–историческое разъяснение; причем Философ в дидактических целях переходит на «территорию» своих оппонентов: «Вопрошю же вы азъ: образъ ли скинья, юже виде въ горе Моисии и изнесе, или образъ образа художьствомъ сдела, прикладомъ образъ, клины и усмы и серестеми и херовимъ изрядны? Понеже то тако сотвори, наречем ли вы того ради древу и усмомъ и серьстемъ честь творити и кланятися, а не богу, давшему в то время такыи образъ? Тако же и о Соломони церкви, понеже иконы херувимьскы и ангелскы, и инехъ многы образы имяше. Такоже убо и мы христьяне угожьшихъ богу творяще образы, чести деемъ, отделяюще доброе отъ демоньскыхъ образъ» («Житие» X см. Лавров 1930: 20–21), см. подробнее ниже.
Приведенные примеры дают достаточное основание если не для восстановления взгляда Константина Философа на икону и — шире — на религиозное христианское изобразительное искусство во всей полноте и специфике, то для определения той более общей и фундаментальной концепции, которую этот взгляд частично отражает. Речь идет о том глубоком понимании религиозного искусства, которое сложилось под влиянием учения отцов VII Вселенского Собора о напоминательной функции искусства и святоотеческого учения о Софии–Премудрости (уместно напомнить, что Премудрость, по ее собственным словам, от века была художницею при Господе и радостию всякий день, веселясь перед лицом Его во все время, — «Книга притчей Соломоновых» VIII:30), ср. Карташов 1994:502 и след. То внутрь направленное движение, которое присуще Софии (или которому причастна она), и связано с все более и более углубляющимся познанием самого сокровенного и таинственного путем снятия покровов бытия и открытия света сверхреальности, придало всей проблеме иконопочитания особый оттенок. И едва ли от Константина и других участников того духовного движения, в котором он деятельно участвовал, могла укрыться теснейшая связь учения об иконопочитании с софийной тематикой. «Напоминательность», знаковость, символичность, внутрь (на самого себя) ориентированное движение как раскрытие сути, прорыв к сверхреальности, онтологичность — все это объединяло проблематику иконопочитания, иконы с софийными темами. .
«Провозглашая догмат иконопочитания, вселенский смысл человечества определял природу изобразительного искусства, как ценную безусловно. Согласно этому провозглашению, эстетический феномен, на своей вершине, как икона, а следовательно — и вообще искусство, хотя и не столь вразумительно, как высший его род, не есть только комбинация внешних впечатлений, поражающая нашу способность впечатляться, но — воистину явление, в чувственном и посредством чувственного, сущей действительности, — нечто безусловно достойное и вечное. Искусство «напоминательно», по учению отцов VII Вселенского Собора. Наши современники, позитивистически настроенные, охотно ссылаются на это учение, но они делают при этом глубокую историческую ошибку, модернизируя это слово— «напоминательность» и освещая его в смысле субъективизма и психологизма. Нужно твердо помнить, что святоотеческая терминология есть терминология древнеэллинского идеализма и вообще окрашена онтологией. В данном случае речь идет отнюдь не о субъективной напоминательности искусства, а о платоновском «припоминании», άνάμνησις, — как явлении самой идеи в чувственном: искусство выводит из субъективной замкнутости, разрывает пределы мира условного и, начинаясь от образов и через посредство образов, возводит к первообразам, от έκτυπος к τύπος, и от τύπος к πρωτότυπός, — от эктипов через типы к прототипам. Искусство — не психологично, но онтологично, воистину показывает новую, доселе незнаемую нам реальность, воистину подымает a realibus ad realiora, et a realioribus ad realissimum. Художник не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом премирно, сущего образа: не накладывает краски на холст, а как бы расчищает посторонние налеты его, «записи» духовной реальности. И в этой своей деятельности, как открывающей вид на безусловное, он сам, в своем художестве безусловен: человек безусловен в своей деятельности. Вот что, собственно, было сказано, как итог иконоборческих споров. На нашу оценку, мысль эта бесспорно ясно вытекает из идеи воплощения, из идеи воплощаемости и воплощенности Абсолютного Смысла бытия; нам ясно, что обожение человека влечет за собою, необходимо влечет, и безусловную ценность его деятельности. А с другой стороны, наша убежденность в подлинной значительности искусства, явным предусловием своим имеет общее утверждение о воплощаемости и воплощенности Безусловной Ценности. Эти два признания так неразрывны между собой, что нам уже мало понятна возможность самого спора о их связи. А между тем этот спор, длившийся целый век и стоивший потоков крови, множества мученичеств, огромных государственных потрясений и всеобщей исторической взбудораженности, доказывает, что конкретный смысл догмата иконопочитания, как возведения искусства на уровень догматической важности, действительно, был мало доступен толпе, — χαλεπά τα καλά — трудно прекрасное».