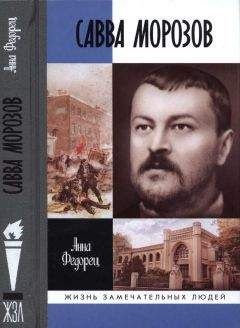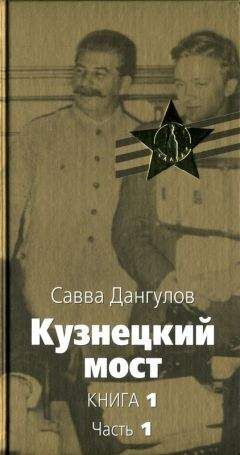Архимандрит Савва (Мажуко) - Апельсиновые святые. Записки православного оптимиста
Пытливый читатель скажет: позвольте, да ведь тут нарушение закона тождества: Александр – не глина, то есть распавшийся прах – это, конечно, его, но не он сам, а значит, замазка для бочки – это не тот, пред кем трепетали народы. Человека нельзя свести к его телесности, и, главное, тот самый субъект действия, носитель имени и биографии, не истлевает, не рассыпается в прах, он где-то и как-то есть, и такой взгляд на посмертную участь далеко не христианское изобретение. Умный и веселый Гораций в знаменитом обращении к Мельпомене изрек: non omnis moriar multaque pars mei vitabit Libitinam – и не пугайтесь меднозвенящей латыни, ведь эту фразу мы знаем с детства благодаря пушкинскому переложению:
«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит…»
Умру – это, конечно, и без вариантов, но – не весь. Граф Альгаротти, далекий земляк Горация, велел процитировать поэта в надгробной надписи: Algarotti non omnis – то есть «Альгаротти – не весь». Здесь – его, но не он сам. Остроумный был граф. Я тоже долго думал, что бы написать на своей могиле, и пришел к простой и ёмкой фразе: «Жду». Кратко. Просто. Дешево. Главное – душеспасительно. А что же, придете навестить скромную юдоль, прочтете и подумаете: а ведь он это серьезно – возможно, я – следующий, и долго ждать меня не придется.
Черный монашеский юмор? Нет, не просто юмор, а след большой духовной традиции, к которой мы все – христиане – причастны. Когда-то ее окрестили наукой умирания, но христиане здесь не были первыми. Это очень древний опыт духовных упражнений по поводу человеческой финальности, такой древний, что бесспорные наставники в этой науке – Сократ и Платон – смотрятся юными эклектиками. Почему все великие философы с благоговением и серьезностью предавались этим упражнениям? Потому что подлинная философия только там, где свобода, а страх – самое жуткое рабство, даже если это самый главный страх – страх смерти. «Кто научился смерти, тот разучился быть рабом», – наставлял друга мудрый Сенека (Письма. 26, 10). Смерти следовало учиться. Предел жизни был предметом размышлений и духовных упражнений. Многолетние упражнения убивали страх смерти, учили мужеству и благородству, а еще – смиряли, показывая человеку его предел.
На средневековых картинах и книжных миниатюрах можно найти изображение монашеской кельи. Ее непременный атрибут – череп на столе. Сидит инок за столом – что-то пишет, или читает, или просто устремил куда-то взор, а перед ним – спокойный и бесстрастный череп – всегда один и тот же – без слез, улыбок, дурного настроения, с несокрушимым спокойствием и безмолвный. Вы скажете: это, конечно, нормально, что череп безмолвствует, страшно себе представить говорящий или хохочущий череп, это уж совсем никакой жизни не будет, но и тащить в келью черепа – та еще причуда! Да, современные монахи обходятся без черепов, к тому же – где вы сейчас достанете приличный череп? Но и в древности он не был простым чудачеством. Это был собеседник. Молчаливый свидетель смерти. Моей смерти. Александр Сергеевич Пушкин однажды сделал подарок своему другу Дельвигу – череп некоего однофамильного барона, украденный неизвестным студентом из рижского склепа. Пушкин – шутник и философ (хотя это одно и то же) – предложил Дельвигу или превратить череп в «увеселительную чашу», или, по примеру средневековых монахов, созерцать, предаваясь думам о смерти:
Святой Иероним в келье. 1514. Худ. Альбрехт Дюрер
«О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой»
– Что же нам теперь – черепа друг другу дарить? Устанавливать на столах для размышлений? Продавать в церковных лавках?
– К чему такие крайности? Мы обойдемся и без этих «нужных» предметов. Но память смертную, как духовное упражнение, современным христианам следует возродить, и принуждает нас к этому наша уязвимость. Дело не в том, что нас теперь легче убить или мы как-то активнее умираем. Здесь-то как раз мы более защищены, чем наши предки: медицина шагнула вперед, эпидемии, голод и войны если и случаются, то не имеют прежней несокрушимости. Нравы стали мягче, жизнь комфортнее, науки развиваются, дети умыты, мужчины причесаны, инвалиды защищены, пенсии и пособия выплачиваются, и умереть от голода уже не так просто, как в старые добрые времена. Но у комфорта есть и обратная сторона: удобства жизни вытесняют куда-то на обочину сознания мысли о смерти, о хрупкости человеческой жизни, все это – неприличное чудачество. Вы не замечали, что у нас в обществе появился негласный запрет на некоторые слова? Нельзя говорить безнадежному больному, что он умирает, нельзя произносить слово «рак», скажи лучше «нехорошая болезнь». Люди смертны, но смерть стараются не замечать, делают вид, что ее нет. Смерть лишили голоса. Умирание стало безгласным и безвидным.
А в Средние века на столе монаха лежал череп. Его держали, как зеркало. В него всматривались внимательно, пытаясь разглядеть тот путь, что надлежит пройти каждому – и мне, и моим близким. Наш мир трагичен, и в нем много боли, и от этой боли не надо прятаться, ее следует избыть. Принять, не боясь, принять мужественно и сразу, еще до того, как потеряешь любимого человека, потому что со своей смертью легче смириться, чем со смертью близкого и родного. В мир проникло зло и распад, грех и распря, и люди умирают, и глаза нам даны не только для зрения, но и для слез. Всё, что видимо, – уязвимо; бессмертно и непреходяще лишь невидимое. Это трагичность нашего мира. Он таков, и другого у нас нет. Это мир смерти. Но только христианам открыта тайна – это мир побежденной смерти. Она еще здесь, но ее власть уже не абсолютна.
Таинство христосования
Они всегда путешествовали вдвоем – девочка и арфа, неразлучные друзья. Девчонка ходила в бесконечном свитере лесных дремуче-зеленых тонов, как в поношенной кольчуге. Круглые веселые очки сверкали озорным светом. Востроносая и быстрая, с тонкими живыми пальцами – невозможно представить ее в обнимку с арфой. «Свитер» суетливо носилась по вокзалу, томно-безмолвная арфа обидчиво мерзла в сером чехле. Люди, тележки, чемоданы мешались с окурками и кислым кофе, горьким вокзальным воздухом, нагонявшим тоску и мучившим вопросами: что я тут делаю? как я сюда попал? о чем я думал? откуда у людей столько «сундуков»? Лесной «Свитер» порхал вокруг багажа, ослепляя очками. Куда можно ехать с арфой? Да еще и в автобусе! Водитель встречал «Свитер» взглядом, полным палестинской тоски: уже два раза перекладывали все чемоданы – арфа никак не впихивалась. Ее переполняло благородное негодование и античный протест – помилуйте, можно ли дочери Аполлона делить места с буржуазными сумками и мещанскими чемоданами. Всем было плохо: водителю, «Свитеру», арфе. Мне было плохо, но я был на стороне арфы. Праздные поляки сочувственно советовали, пытались помочь – здесь поднять, тут подоткнуть. Забота была свирепой, и силы были неравны. Арфа сдалась, как и протестовала, – без ропота и с аттическим достоинством.
Беспокойна и чудовищна ночь в автобусе. Будто ты в гоголевском рассказе, но не со стороны Днепра, а в зарослях кладбищенского берега: «Душно мне, душно!» Две бескрайние тетки угрюмо, по-воровски хрустели чипсами в час ночи. Даже закрыв глаза, чудились испуганно-голодные, широко распахнутые глаза несытых дам. В темноте, среди ночного хруста, притаился неугомонный «Свитер». Двухметровый парень справа пытался уснуть – хоть кому-то хуже, чем мне. Но сердце утешалось, потому что где-то внизу в недрах автобуса молчала арфа-смиренница. И когда я это осознал, мне сразу полегчало. Если так страдает арфа, что же мне жаловаться? Потерпим ужо, выдюжим. И совсем не страшно, и совсем не больно. Если даже арфа терпит… А ведь арфа – друг человека. И выплыли из памяти, закружились в благородном танце виденные в детстве величественные дамы в легких длинных платьях. Они нежно обнимали волшебный инструмент, их руки порхали по струнам, едва касаясь серебряных струй. И лился звук – волшебный, нездешний, чарующий.
«И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!»
Девушка с арфой. 1873. Худ. Данте Габриэль Россетти
Музыка рождается в объятиях, ее будят поцелуи. Чтобы запел кларнет, музыканту нужно смешать свое дыхание с дыханием благородного орудия. Скрипач обнимает скрипку, она, как дева, доверчиво кладет голову на плечо друга; виолончель поет в объятиях мастера, в объятиях внимательных и сильных рук оживает гитара, ласково прильнув к груди, заливается аккордеон, флейта молчит без поцелуев, любящих губ чает тромбон. Туба не ждет объятий, заключает в объятия сама, и самый распоследний злодей не устоит перед этим инструментом – любимой «певицей» сеньора Карабаса – сыграет простую, бедную партию тубы, отдышится сквозь улыбку и с радостными слезами: «Это просто праздник какой-то!»