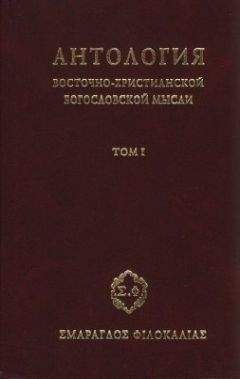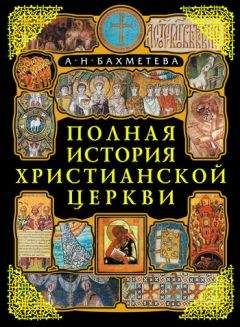Гершом Шолем - Основные течения в еврейской мистике
10
Сказанное о Галахе и Агаде справедливо и в отношении литургии, мира молитвы, – последней из трёх сфер, в которых религиозный дух послебиблейского иудаизма нашёл своё классическое выражение. Неизбежен вывод, что философы не внесли значительного вклада в эту область. До нас дошли целиком некоторые молитвы, сочинённые философами, и эти молитвы отличаются вялостью и холодностью, особенно если их авторы не были, подобно Шломо ибн Габиролю и Иегуде га-Леви, мистиками.
Во многих из них ощущается странное отсутствие истинного религиозного чувства. Совершенно иначе, по-моему, относились к молитве каббалисты. Быть может, нет более ясного свидетельства того, что каббала представляет собой по существу религиозный, а не умозрительный феномен. Новизна в отношении каббалистов к молитве может быть усмотрена в двух моментах: в большом числе молитв, написанных самими мистиками, и в мистическом переосмыслении старых, традиционных коллективных молитв, образующих костяк еврейской литургии.
Начнём с первого момента. Неудивительно, что новое религиозное откровение, явленное визионерам каббалы, откровение, для которого не существовало литургического эквивалента в более ранних молитвах, стремилось найти какую-нибудь форму выражения и вдохновило уже мистиков самого раннего периода на написание своих собственных молитв. Эта долгая и богатая оттенками традиция, зародившаяся среди каббалистов Прованса и Каталонии [17], продолжалась примерно до 20-х годов XIX века, когда Натан из Немирова, ученик рабби Нахмана из Брацлава, нашёл в сочинённых им молитвах эффективную форму выражения духа хасидского культа праведников (цадикизма) [XXXI]. Эта мистическая молитва, имеющая мало внешнего сходства с прежней литургией, в особенности с классическими формами коллективной молитвы, основывается на новом религиозном опыте, на обладание которым каббалисты по праву претендовали. Зачастую эти молитвы несут печать непосредственности и простоты и служат ясным выражением того, что характерно для любой формы мистики. Но подчас их язык – это язык символа, и в них чувствуется скрытый пафос магического заклинания. Это нашло своё глубокое выражение в мистическом истолковании библейского стиха (Пс. 130:1): «Из глубины взываю к Тебе, Господи» – стиха, который автор книги Зогар понимал не как «я взываю к Тебе из глубины (где я пребываю)», но как «из глубины (в которой Ты пребываешь) я Тебя вызываю» [XXXII].
Но наряду с этими оригинальными продуктами творческого каббалистического духа, мы обнаруживаем в продолжение всего периода от зарождения каббалы до нашего времени другую тенденцию: тенденцию мистического переосмысливания традиционной коллективной литургии и преобразования её в символ мистического пути и самого мирового процесса. Это преобразование, игравшее немаловажную роль в действительной жизни каббалиста, нашло выражение в понятии кавана, мистической интенции или сосредоточения, которое служит средством этого преобразования [XXXIII]. В словах литургии так же, как в старинных агадах, каббалисты нашли путь к скрытым мирам и первопричинам всего сущего. Они разработали технику медитации, позволяющую как бы извлечь мистическую молитву из экзотерической коллективной молитвы с её твёрдо установленным текстом. То, что эта форма молитвы мыслилась не как свободное излияние души, а мистический акт в строгом смысле слова, как акт, который непосредственно связан с внутренним мировым процессом, сообщает понятию кавана торжественную серьёзность, сближающую его с магией и даже придающую ему определённо магический характер. Знаменательно, что из всех разнообразных форм каббалистической мысли и практики выжила только эта созерцательная мистика молитвы, которая вытеснила все остальные формы. В конце длительного процесса развития, на протяжении которого каббала, как это ни парадоксально звучит, оказывала влияние на ход еврейской истории, она снова стала тем, чем была в его начале: эзотерической мудростью небольших групп людей, оторванных от жизни и не оказывающих на неё никакого влияния.
11
Как я уже отмечал, мистика представляет собой в определённом смысле возрождение мифологии. Это приводит нас к другому и очень серьёзному вопросу, который заслуживает по меньшей мере упоминания. Еврейский мистик живёт и действует, неустанно восставая против мира, с которым он страстно желает пребывать в гармонии. Это вызывает глубокую раздвоенность в его мировосприятии, и этим также объясняется видимая противоречивость, присущая множеству каббалистических символов и образов. Великие символы каббалы восстают, несомненно, из глубин творческого и истинно еврейского религиозного чувства, но наряду с этим в них неизменно ощущается присутствие мира мифологии. В главах, посвящённых книге Зогар и лурианской каббале, я иллюстрирую эту мысль несколькими особенно яркими примерами. Без этого мифического элемента древние еврейские мистики не смогли бы найти словесного выражения своему внутреннему опыту. У гностицизма, одного из последних великих проявлений мифотворчества в религиозной мысли, зачатом в борьбе против иудаизма – монотеистического победителя мифологии, заимствовал еврейский мистик свои обороты речи.
Значение этого парадокса трудно переоценить. Надо принять во внимание, что смысл и назначение всех этих старых мифов и метафор, остатки которых редакторы «Сефер га-Багир» и через них вся каббала унаследовали от гностиков [XXXIV], сводились лишь к подрыву Закона, некогда расстроившего и разрушившего порядок мифического мира. Таким образом, можно воочию убедиться в том, что в дальних и периферийных областях каббалы миф мстит своему победителю и вместе с этим обнаружить обилие противоречивых символов. Для каббалистической теологии в её систематизированных формах характерно стремление сконструировать и описать мир, в котором ожило бы мифическое начало, и она прибегает при этом к категориям мышления, исключающим мифический элемент. Однако именно этим противоречием прежде всего и объясняется чрезвычайный успех, выпавший на долю каббалы в еврейской истории.
И мистики, и философы – это как бы аристократы духа; однако каббалистам удалось установить связь между своим собственным миром и некоторыми изначальными импульсами, живущими в сознании каждого человека. Каббалисты не отвернулись от примитивной стороны жизни, той крайне важной сферы, где души смертных разрываются между страхом жизни и страхом смерти, не находя вразумительного ответа на свои вопросы в рациональной философии. Философия презрела эти страхи, из субстанции которых человек выткал мифы, и за это своё пренебрежение к примитивной стороне человеческого существования она заплатила высокую цену, утратив вообще всякую связь с человеком. Ибо для тех, кого мучают настоящий страх и горе, слабое утешение услышать, что его беды являются лишь плодом его собственного воображения.
Факт существования зла в мире – главный пробный камень для различения между философским и каббалистическим видением мира. В целом философы иудаизма трактуют проблему зла в мире как мнимую проблему. Некоторые из них очень гордились этим отрицанием, усматривая в нём одну из установок того, что они называли рациональным иудаизмом. Герман Коген говорил с большой ясностью и убеждённостью: «Зла не существует. Оно производно от понятия свободы. Только в мифе царит зло» [XXXV].
Можно усомниться в философской истинности этого утверждения, но, допустив, что оно истинно, надо сказать кое-что и в защиту «мифа» в его единоборстве с «философией». Во всяком случае, для большинства каббалистов, этих истинных хранителей печати царства мифа, существование зла – одна из наиболее актуальных и значительных проблем, которую они неустанно пытаются разрешить. В них сильно чувство реальности зла и смутного ужаса, тяготеющего над всем живым. В отличие от философов, они стремятся не уклоняться от вопроса о реальности зла с помощью удобной формулы, но проникнуть в его глубину. И, поступая так, они невольно устанавливают связь между своими собственными устремлениями и жизненными интересами народной веры – или, если угодно, суеверия – и всеми конкретными формами еврейской жизни, в которых нашли своё выражение эти страхи. Парадоксально, что именно каббалисты, благодаря своему толкованию различных религиозных актов и обычаев, открыли их смысл для рядового верующего, хотя, может быть, и не тот смысл, который вкладывался в них в момент их возникновения. Еврейский фольклор служит живым доказательством истинности этого утверждения; современные исследования подтверждают его на нескольких общеизвестных примерах [XXXVI].
Бесполезно отрицать то, что каббалистическая мысль утратила в немалой мере свой блеск, когда она была вынуждена сойти с вершины теоретической спекуляции на землю повседневного мышления и практической жизни. Опасности, которые миф и магия представляют собой для религиозного сознания, в частности для мистики, чётко обозначились в ходе развития каббалы. Изучая сочинения великих каббалистов, трудно отделаться от двойственного впечатления, вызываемого ими: восхищения, чередующегося с отвращением. Об этом надо заявить со всей недвусмысленностью в наше время, когда существует опасность того, что некритическое и поверхностное отрицание даже наиболее ценных элементов мистики сменится столь же некритической и обскурантистской апологией каббалы. Я уже отмечал, что еврейская философия должна была заплатить высокую цену за своё бегство от злободневных проблем действительной жизни. Но и каббале успех не дался даром. Философия была опасно близка к тому, чтобы потерять живого Бога; каббала же, стремясь сохранить Его и проложить к Нему новую и славную тропу, натолкнулась в пути на мифологию и поддалась соблазну затеряться в её лабиринте.