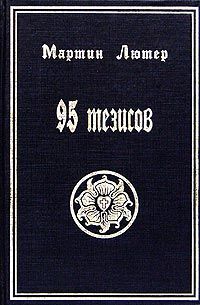Пауль Тиллих - Систематическая теология том 1,2
Если судить по этим описаниям, то можно заметить, что различие между грехом и злом действительно лишь отчасти. Зло как саморазрушительное следствие греха включает в себя и сам грех. Элемент ответственности отнюдь не отсутствует и в таких структурах деструкции, как бессмыслен- i ное страдание, покинутость, циничное сомнение, бессмысленность или^ отчаяние. Но, с другой стороны, каждая из этих структур зависит от уни-;
нереального состояния отчуждения и его саморазрушительных послед-1 ствий. С этой точки зрения было бы оправданным говорить о «грехе» в' одном контексте и о «зле» - в другом. Здесь разница скорее в акцентах, чем;
в содержании. |
В современных социологических и психологических исследованиях! был выдвинут на первый план и еще один вопрос. Это вопрос о том, в;| какой степени структуры деструкции являются общечеловеческими, а в 1 какой они обусловлены исторически. Ответ состоит в том, что их появ-1 ление в истории возможно лишь в силу их универсального, структурно-1 го присутствия. Отчуждение — это качество структуры существования,! однако тот вид, в котором оно себя преимущественно выявляет, - это| дело истории. В истории всегда присутствуют структуры деструкции, не' возможны они лишь потому, что существуют такие структуры конечное-^ ти, которые могут быть преобразованы в структуры отчуждения. Суще»;
ствует множество социологических и экзистенциалистских исследований! человека в индустриальном обществе, в которых речь идет об утрате себй' и утрате мира, о механизации и опредмечивании, покинутое™ и подчич нении коллективу, об опыте пустоты и бессмысленности. Сами по себ| эти исследования верны, однако они лживы в том случае, если зло бед» ственности человека в нынешний исторический период они выводят вд структуры индустриального общества. А это подразумевает веру в то, чтв сами по себе изменения в структуре нашего общества приведут к изме<<| нению экзистенциальной бедственности человека. Это характерно для| всякого утопизма; главная его ошибка заключается в неразграничении! между экзистенциальной ситуацией человека и ее проявлениями в разт | личные исторические периоды. Структуры деструкции есть во всех пери- ' одах, и они во многом аналогичны особым структурам нашего периода,.! Отчуждение человека от его сущностного бытия - это универсальный ', признак существования. Отчуждение — неиссякаемый источник многих частных зол во всяком периоде.
Структуры деструкции - это не единственный признак существования. Они уравновешены структурами исцеления и воссоединения отчужденного. Однако эта амбивалентность жизни отнюдь не оправдывает тех утопистов, которые проявление зла того или иного периода выводят из структур этого периода, не ссылаясь при этом на ситуацию универсального отчуждения.
4. Смысл отчаяния и его символы
а) Отчаяние и проблема самоубийства. — Описанные нами структуры зла ввергают человека в состояние «отчаяния». В нескольких местах мы уже указывали на элементы отчаяния, но не касались природы отчаяния в
целом. Эту задачу предстоит исполнить систематической теологии. Отчаяние обычно обсуждалось в качестве психологической проблемы или проблемы этики. Оно, несомненно, является и тем и другим, но оно и нечто большее: отчаяние — это окончательный показатель бедственности человека и та черта, которую человек не должен преступать. Именно в отчаянии, а не в смерти, человек приходит к пределу своих возможностей. Само это слово (отчаяние) указывает на отсутствие чаяний. Оно обозначает безнадежность и выражает ощущение той ситуации, из которой «нет выхода» (Сартр). Немецкое слово Ver^weiflung связывает отчаяние с сомнением (Zweifel). Приставка т-указывает на такое сомнение, ответ на которое невозможен. Наиболее впечатляющее описание ситуации отчаяния было дано Кьеркегором в его «Болезни к смерти», где «смерть» означает пребывание «по ту сторону» возможного исцеления. Подобным же образом Павел указывает на ту скорбь, которая является скорбью этого мира и ведет к смерти.
Отчаяние — это состояние неизбежного конфликта. С одной стороны, это конфликт между тем, каким человек является потенциально и каким он, следовательно, должен быть и, с другой стороны, между тем, каким он является актуально в сочетании свободы и судьбы. Боль отчаяния - это агония ответственности за утрату смысла существования «я» и за невозможность этот смысл обрести. Человек замкнут в себе и находится в конфликте с самим собой. Он не может от этого убежать, потому что от себя не убежишь. Именно в этой ситуации и возникает вопрос о том, может ли самоубийство быть способом избавления от себя. Нет никакого сомнения, что самоубийство имеет куда более широкий смысл, чем тот, который кажется подтвержденным сравнительно небольшим числом актов самоубийства. Прежде всего, в жизни вообще существует тяга к самоубийству, жажда покоя без конфликтов. Человеческая страсть к пьянству — следствие этой жажды (ср. фрейдистское учение об инстинкте смерти и данную выше его оценку). Во-вторых, в каждое мгновение нестерпимой, непреодолимой и бессмысленной боли существует желание от этой боли избавиться, избавившись для этого от себя. В-третьих, ситуация отчаяния — это прежде всего такая ситуация, в которой явственно пробуждается желание избавиться от себя, а образ самоубийства возникает в самой искус ительной форме. В-четвертых, бывают такие ситуации, в которых бессознательная воля к жизни оказывается подорванной и происходит психологическое самоубийство в форме непротивления угрозе уничтожения. В-пятых, целые культуры проповедуют самоотрицание воли, однако не в терминах физического или психологического самоубийства, но в форме освобождения жизни от всякого конечного содержания для того, чтобы сделать возможным вступление в предельную тождественность.
В свете этих фактов вопрос о самоотрицании жизни должен бы быть рассмотрен куда серьезнее, чем это обычно делается в христианской теологии. Внешний акт самоубийства не стоит вычленять из всего остального, делая его объектом особого морального и религиозного осуждения. Основой подобной практики является суеверное представление о том, будто самоубийство окончательно исключает действие спасающей благодати. И в то же время присущая каждому внутренняя тяга к самоубийству Должна быть расценена как выражение человеческого отчуждения.
Решающим и теологически окрашенным является вопрос о том, почему самоубийство нельзя считать бегством от отчаяния. Конечно, здесь не существует проблемы для тех, кто верит, что подобное бегство невозможно потому, что и после смерти жизнь продолжается в сущностно таких же, что и раньше, условиях, включая категории конечности. Но если воспринимать смерть серьезно, то нельзя отрицать того, что самоубийство устраняет условия отчаяния на уровне конечности. Можно, однако, спросить, является ли этот уровень единственным и указывает ли элемент вины в отчаянии на измерение предельного. Если это утверждается (а христианство, безусловно, должно это утверждать), то самоубийство не является окончательным бегством. Оно не избавляет нас от измерения предельного и безусловного. Это можно было бы выразить в несколько мифологической форме, сказав, что ни одна личностная проблема не является делом чистой преходящести, но уходит корнями в вечность и требует такого решения, которое соотносилось бы с вечным. Самоубийство (внешнее ли, психологическое ли, метафизическое ли) — это удачная попытка вырваться из ситуации отчаяния на временном уровне. Однако в измерении вечного попытка эта неудачна. Проблема спасения трансцендирует временной уровень, и на эту истину указывает опыт самого отчаяния.
б) Символ «гнева Божия». — Опыт отчаяния отражен в символе «гнева Божия». Христианские теологии и пользовались этим понятием, и критиковали его. Критики обычно напоминали о том, что языческое понятие «ярость богов» предполагает идолопоклонническую идею конечного бога, эмоции которого могут быть вызваны другими конечными сущими. Такого рода понимание откровенно противоречит как божественности божественного, так и его безусловности. А если так, то это понятие в христианском мышлении должно быть либо реинтерпретировано, либо полностью отвергнуто. Альбрехт Ричль15' предпочел последнее не только во имя божественности божественного, но еще и во имя той божественной любви, которая, как он верил, является истинной природой Бога. Если человек говорит о «гневе» Бога, то этим, как может показаться, он создает раскол в Боге между любовью и гневом. Бог, так сказать, оказывается в ловушке собственного гнева, а затем его любовь должна найти из этого конфликта выход. А потом искупительное дело Христа предлагалось в виде того решения, которое позволяет Богу простить то, что вызвало его гнев, ибо в смерти Христа его гнев был умиротворен. Однако такой подход, зачастую выражаемый в количественных и механистических категориях, на деле представляет собой посягательство на величие Божие. Поэтому те места из Нового Завета, где упоминается о гневе Божием, Ричль толковал таким образом, чтобы отнести их к окончательному Суду. «Гнев Божий» - это выражение негативной стороны Страшного Суда. Однако необходимо спросить, неужели опыт отчаяния не оправдывает применения символа «гнев Божий» для выражения элемента в отношении между Богом и человеком. Можно было бы сослаться на Лютера, который продемонстрировал экзистенциальный подход к проблеме, сказав: «В какого Бога верим, такого и имеем». Для тех, кто сознает свое собственное отчуждение от Бога, Бог являет собой угрозу окончательного разрушения. Его лик приобретает демонические черты. Те же, кто с ним примирился,