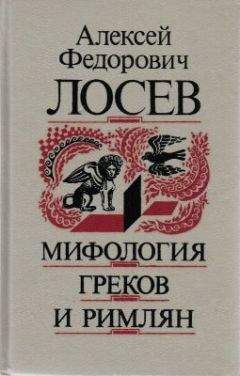Алексей Лосев - Античный космос и современная наука
Понятие напряженности, как это ясно само собой, есть лишь следствие учения о материи. С историко–философской точки зрения любопытна в этом смысле по своей диалектической чистоте позиция, занятая Плотином в отношении к неопифагорейцам. Так, у Тимея Локрского материя тоже бесформенна, тоже έκμαγειον; однако она же и — усия (Tim. Locr. 94а), как и у Окелла — σώμα //отпечаток… тело (греч.).// (de univ. nat. 2, 3; 2, 7; 2, 12), что является несомненным стоицизмом, хотя и со столь же несомненной аристотелистской обработкой (таковы «нетелесные логосы» — Oceli. 2, 5 и потенции — ibid., 2, 3; 2, 6; 2, 7). Плотин удаляет из этой концепции аристотельствующего стоического платонизма черты стоицизма и учение Тимея Локр. (97е) о соединении «материи» и «эйдоса» в новые άπογεννάματα τουτέων, т. е. в τά σώματα, //их порождения… тела (греч.).//понимает исключительно диалектически (т. е. как чистую «генезис»). Как известно, неопифагореизм развивался в двух направлениях: одно — не выдвигало понятие числа на первый план (куда, кроме Тимея Локр. и Окелла, можно отнести и псевдо–Архитовы отрывки); другое исходило, главным образом, из философии чисел (сюда относят пифагорейцев Александра Полигистора, на основании Diog. L. VIII 24 и слл., и, на основании Секста Эмпирика adv. mathem. X 250 слл. и Pyrrh. Hyp. Ill 152 слл., также Модерата, Никомаха, Нумения и др.). Изучение этого второго направления в неопифагорействе особенно важно для историко–философского понимания Плотина с его учением о материи. Я бы предложил делить эти запутанные неопифагорейские учения на три группы. Одна противопоставляет монаду и двоицу дуалистически–метафизически (о чем, напр., Chalc. in Plat. Tim., с. 295 Wrob., отчасти у Iambi, intr. Nie. ar. 78 Pist.); другая — выводит двоицу из монады (таковы, напр., те пифагорейцы, о которых рассказывает Diog. L. VIII 25 со слов Александра Полигистора), однако пользуется не–диалектичес–кими категориями и не вполне диалектическими (яснейший пример чего я нахожу в Симплициевом изображении, со слов Порфи–рия, учения Модерата — Simpl. in phys. I 231 Diels: 8—10 — о лишении монады части своего «количества», 24—25 — о παράλλαξις //смещение (греч.).// чувственных эйдосов к умному миру и т. д.); третья — пытается вывести двоицу диалектически (наиболее подробную иллюстрацию чего можно найти в учениях, которые реферируются в Theol. arithm. I—II De Falco; напр., «монада есть принцип числа, не имеющий бытия [в качестве особого факта]», — θέσιν μή εχουσα, init., ср. хороший комментарий к этому месту в старом издании «Теологумен» у Ast (1817), 157— 158; «сама она, даже если еще не существует в виде энергии, тем не менее содержит в себе как некое семя всякие смысловые данности, функционирующие и во всех числах и, главным образом, в диаде», De Falco 1 ю; и т. д.). Плотин отбрасывает дуализм первого направления и объединяет учение второго о στέρησις, подчеркивая в ней чисто–аристотелевский момент, с учениями третьего о монаде как принципе, об επέκεινα τής ουσίας //лишенности… запредельном сущности (греч.).// и одновременно об имманентности единого многому. Получается учение о становлении как о самораскрытии монады, что, впрочем, содержится отчасти в гегелианских конструкциях нео–пифагорейской «инаковости» и αόριστός δυάς (на которые указывает и С. Baeumker, Probl. d. Materie in d. griech. Philos. Miinst., 1890, 393—394) и что, как известно, восходит еще к Древней Академии и Платону, если не раньше того. — Великолепным разъяснением перехода к космосу и к учению о напряженности бытия является учение Николая Куз. о контракции (II, 4 в «Doct. ign.» — «quomodo universum maximum contractum tantum est similitudo absoluti»//что вселенная — максимум, но только конкретно определив¬шийся, — есть подобие абсолюта (лат.; пер. В. В. Бибихина).//). Ср. особенно II, 6.
Сравнительная характеристика платонизма и аристотелизма. Неоплатонизм, как известно и как я неоднократно указывал, есть синтез платонизма и аристотелизма. Это мы можем констатировать везде: на проблеме единства, на проблеме потенции и энергии, чтойности и т. д. Сейчас, когда мы перешли к тетрак–тиде В и постулировали в качестве необходимой для античного космоса категорию бытийственной интенсивности, мы должны отчетливо представлять себе платонический и аристотелистский момент в конструкции этой категории, с тем, чтобы ясной стала и неоплатоническая конструкция. Тут завязан узел всех основных проблем — «подражания» идеям, самих «идей», материи, потенции и энергии. Поэтому дадим общую сравнительную характеристику платонизма и аристотелизма для обобщения всех тех частных сопоставлений, которыми занимается эта работа.
1. Пункт тождества платонизма и аристотелизма. Сам Аристотель, как можно заметить не раз, приравнивает у Платона «подражание» — «участию» в «идеях». Если мы сумеем теперь перейти от платонической «метэксис» к тому, чем в системе аристотелизма заменяется это понятие и чему это понятие соответствует, то мы также получим и подлинно аристотелевское понятие «подражания». У Платона, по изложению Аристотеля, «идеи», или общие сущности вещей, «отделены» от вещей, и вещи существуют благодаря «участию» в этих «идеях», так что «идеи» суть «образцы» вещей, парадейгма вещей. Сразу ясна вся центральность и ответственность понятия „подражания“ для системы платонизма. Что теперь делает Аристотель? Отказываясь от обычных и совершенно неверных квалификаций Аристотеля как «эмпирика», в отличие от Платона как от «рационалиста», мы должны с полной уверенностью сказать, 4fo учение Платона об «идеях» остается у Аристотеля совершенно незыблемым. Он так же, как и Платон, говорит о сущности и смысле вещей, о несводимости смысла на вещные определения, о необходимости общностей для познания, о преобладающем значении ума над чувствами и т. д. и т д. Он не согласен Только с одним, а именно, что сущности отделены от того, чего они — сущности. На первый взгляд это , неужели Платон, говоря об идеях вещей как об их сущностях, совершенно не учитывает того, что вещи должны же как–то быть совмещены с идеями, чтобы воспринять от них смысл, и идеи должны же как–то присутствовать в вещах, чтобы их осмысливать, чтобы вещи действительно имели этот смысл, а не были вне его и не оставались бессмысленными, т. е. уже переставали быть вещами? С другой стороны, сам Аристотель не только же отождествляет вещь и смысл ее. Как мы видели, Аристотель самым решительным образом также и отделяет вещь от смысла: смысл ведь, по его учению, ни в коем случае не есть вещь и ни в коем случае не определяется вещной, пространственно–временной характеристикой. И все это есть ведь азбучная истина для читателей и знатоков Платона и Аристотеля. Платон не только разъединяет смысл и явление, но и объединяет их. И Аристотель не только объединяет смысл и явление, но и разъединяет их. В чем же дело? Почему Аристотель прямо не переносит платонического учения о парадейгме и мимезисе в свою систему? Для чего он значительную часть своего труда по «первой философии» посвящает критике платонизма как раз в этих самых вопросах об «идеях», «парадейгме» и «мимезисе»?
2. Основное расхождение. Есть, разумеется, такая универсальная причина расхождения двух великих философских систем, и не может ее не быть; не может она быть сводимой на случайное разногласие ученика с учителем, на личную неприязнь и на прочие случайности пространственно–временной и психологической истории. Это — универсальное расхождение двух систем, поселившее в них взаимную вражду на все времена; это — расхождение по линии конструктивно–логического метода. А именно, чистый платонизм есть диалектика, чистый же аристотелизм — формальная логика. Тут кроется подлинный и единственный принцип, разъединяющий две системы, тождественные во всех прочих основных пунктах.
Для Платона вещи и идеи различны. Вещь меняется, идея ее — неподвижна; вещь — предмет текучего и алогического чувственного восприятия, идея — неподвижный предмет чистого ума в его максимальной созерцательной напряженности; и т. д., и т. д. Но, говорит Платон, вещи и идеи также и тождественны, ибо сама вещь есть не что иное, как та же самая идея, но взятая в своем инобытии, взятая в своей той или иной, но все еще чисто идеально–смысловой, степени. Таким образом, в платонизме, собственно говоря, нет ничего, кроме идей, и все бытие, весь мир есть только саморазвитие идей, закономерный переход их в свое инобытие, или в материю, в чувственность. Существует и вполне определенная логика этого перехода, именно диалектическая логика, состоящая в конструкции антиномий разума, в порядке инобытийного перехода идей и в продолжении их путем рождения из этих антиномий новых идей, совмещающих предыдущие противоположности. Вечные и недосягаемые образцы такой диалектики даны в «Софисте», «Пармениде» и «Тимее».
Как, теперь, рассуждает Аристотель? По его учению, вещи и их идеи также раздельны. Вещь не есть ее смысл, смысл вещи не есть она сама, эта вещь. Но откуда я взял, спрашивает Аристотель, что эта вещь имеет смысл? Разумеется, ниоткуда больше, как из самой вещи. Если уничтожить эту вещь или не наблюдать ее, можно ли говорить об ее смысле? Конечно, нет и нет. Раздельность между смыслами и вообще всякое взаимоотношение между ними — откуда узнаем мы, как не из самих вещей? Конечно, из вещей и только из них. Значит, заключает Аристотель, существуют только вещи, и так называемые идеи есть не что иное, как эти же самые вещи, но только взятые с их смысловой стороны, их эйдосы. Сами по себе идеи никакой субстанцией не обладают; субстанциальны только единичные вещи. Но мы их признаем как смысл вещей, как необходимо присущие им, имманентно осмысливающие их смысловые силы. Другими словами, из одного и того же рассуждения о различии вещи и сущности Платон и Аристотель делают два диаметрально–противоположных вывода, причем один из них все время следит за идеально–смысловыми судьбами самих идей, а другой — за идеально–смысловыми судьбами самих вещей. Платон дает диалектику самих вещей, Аристотель же ограничивается смысловой конструкцией уже готовых вещей. На вопрос «Как произошли вещи?» Платон будет отвечать тем, что выведет их из системы идей путем диалекти–чески–антиномического перехода от одного понятия к другому. Аристотель же на тот же самый вопрос ответит учением о пространственно–временном, причинно–объясняющем происхождении вещей или вещи, и только эйдетически закрепит конструкцию, полученную не эйдетическими, но натуралистическими путями.