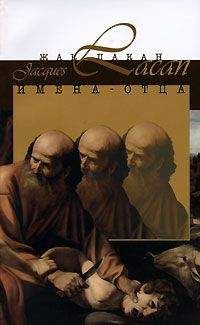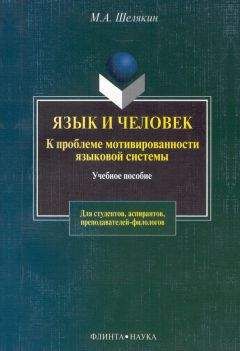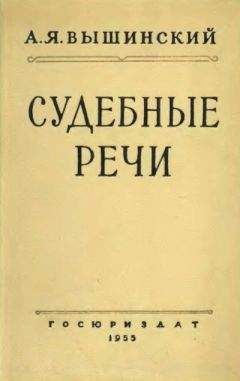Жак Лакан - Функция и поле речи и языка в психоанализе
Отсутствие речи обнаруживает себя в стереотипах дискурса, где субъект не столько говорит, сколько сказывается; символы бессознательного являются нам здесь в окаменевших формах, которые, наряду с мумифицированными формами, в которых сохраняются мифы в наших книгах по мифологии, находят себе место в естественной истории этих символов. Ошибочно, однако, полагать, будто субъектих усваивает, ибо сопротивлениеих признанию оказывается не меньшее, чем в случае неврозов, когда субъекта толкает на это сопротивление попытка лечения.
По ходу дела заметим, что полезно было бы проследить, какие места в социальном пространстве определяет для этих субъектов наша культура, особенно в отношении предоставленияим социальных ролей, имеющих отношение к языку, ибо вполне вероятно, что при этом обнаружится один из факторов, делающих эти субъекты жертвами разрыва, вызванного характерными для сложных структур цивилизации символическими несоответствиями. Второй случай представлен привилегированной областью психоаналитического открытия, т. е. симптомами торможения и страха в картине различных неврозов.
Речь изгнана здесь из упорядочивающего сознание конкретного дискурса, но находит себе опору либо в естественных функциях субъекта — что происходит, если какое-нибудь органическое расстройство провоцирует разрыв между индивидуальным бытием и его сущностью, благодаря которому болезнь становится посвящением живого существа в существование субъекта [21], - либо в образах, организующих структуру тех отношений, которые возникают междуUmwelt иInnenwelt на их границе.
Симптом является здесь означающим вытесненного из сознания субъекта означаемого. Символ, начертанный на песке плоти и на покрывале Майи, он причастен языку в силу той семантической двусмысленности, которая уже отмечалась нами в его строении.
Но это и есть полноценно функционирующая речь, ибо в секрет ее шифра включен дискурс другого.
Именно расшифровка этой речи и привела Фрейда к открытию того первичного языка символов [22], что в неудовлетворенности человека, принадлежащего цивилизации (DasUnbehageninderKultur) дает о себе знать и поныне.
Иероглифы истерии, гербы фобии, лабиринты Zwangsneurosen, прелести бессилия, тайны внутреннего запрета, оракулы страха; говорящие гербы характера [23], печати самобичевания, маски извращения — вот недомолвки, которые наше толкование разрешает; двусмысленности, которые наш призыв рассеивает; уловки, которые оправдывает наша диалектика на пути освобождения плененного смысла, начиная от раскрытия палимпсеста и кончая разгадкой тайны и прощением речи. Третий парадокс отношения языка к речи — это парадокс субъекта, теряющего свой смысл в объективациях дискурса. Сколь бы метафизичным ни казалось нам такое определение, мы не можем не признать присутствие этого парадокса на первом плане нашего опыта. Именно здесь имеет место наиболее глубокое отчуждение субъекта научной цивилизации, и именно с этим отчуждением мы сталкиваемся сразу же, как только субъект начинает о себе говорить; для полного его преодоления анализу пришлось бы приблизиться к границам мудрости.
В поисках образцовой формулировки этого парадокса нет почвы более благоприятной, нежели речевой обиход. Обратившись к нему, мы заметим, что на смену это [есмь] я современников Вийона у нас пришло это [есть] «мое я».
Мое я современного человека сформировалось, как мы уже говорили, в диалектическом тупике «прекрасной души», не умеющей разглядеть в обличаемом ею хаосе мира причины собственного своего бытия.
Но из тупика этого, где дискурс субъекта приобретает характер бреда, ему предлагается выход. Он может вступить в полноценное общение в рамках общего дела науки и в тех ролях, которые принадлежат ей в мировой цивилизации; внутри колоссальной объективации, этой наукой обусловленной, общение это будет эффективным и позволит ему забыть о своей субъективности. Он примет деятельное участие в этом общем деле своим повседневным трудом и заполнит свой досуг всеми щедрыми благами культуры, которые — от детектива до исторических мемуаров, от общеобразовательных лекций до ортопедии группового общения — дадут ему все необходимое, чтобы забыть о своем существовании и смерти и в мнимом общении пренебречь смыслом своей собственной жизни.
Если бы в регрессии, зачастую доводимой вплоть до стадии зеркала, субъект не нащупывал ограду арены, на которой «его собственное я» вершит свои воображаемые подвиги, то доверчивость, жертвой которой он неминуемо должен в этой ситуации пасть, не имела бы границ. Именно это возлагает на нас поистине страшную ответственность, когда пользуясь мифическими манипуляциями своего учения мы создаем для субъекта дополнительную возможность отчуждения — например, в распадающейся троице ego, superego, и id.
Здесь на пути речи встает стена языка, и предостережения против пустословия, служащие темой разговоров «нормального» человека нашей культуры, только делают эту стену толще.
Толщину ее вполне можно было бы выразить в статистическим путем рассчитанной сумме килограммов полиграфической продукции, километров дорожек граммофонной записи и часов радиовещания, которую производит данная культура на душу населения в зонах А, В и С своего распространения. Это могло бы дать нашим культурным организациям отличный объект для исследований, и в результате сразу стало бы ясно, что вопрос языка не вмещается в пространство мозговых извилин, где отражаются его использование в индивиде.
We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas! *
и так далее.
Но коль скоро приведенная нами выше формула — т. е. субъект не говорит, а оказывается — адекватна, то сходство этой ситуации с отчуждением, имеющим место в безумии, с очевидностью следует из предполагаемого психоанализом требования «истинной» речи. Если следствие это, предельно заостряющее парадоксальность того, о чем здесь говорится, стали бы использовать как свидетельство об отсутствии в психоаналитической перспективе здравого смысла, мы вполне признали бы основательность возражения, но обнаружили бы в нем лишнее подтверждение своей позиции, сделав для этого диалектический ход, у которого немало законных крестных: вспомним хотя бы Гегеля, выступавшего против «черепной философии», и предупреждения Паскаля, вторящего ему, еще на заре исторической эры «моего собственного я»: «люди с такой необходимостью являются сумасшедшими, что не быть сумасшедшим значило бы просто быть сумасшедшим на новом витке сумасшествия».
Этим мы вовсе не хотим, однако, сказать, будто культура наша по отношению к творческой субъективности пребывает во тьме внешней. Напротив, субъективность эта никогда не оставляла борьбы за обновление неисчерпаемого могущества символов в рождающем их межчеловеческом обмене.
Придавать значение немногочисленности субъектов, которые являются носителями этой творческой активности, было бы отступлением на точку зрения романтизма, сопоставляющую явления, отнюдь между собой не эквивалентные. Дело в том, что субъективность эта, в какой бы области она ни проявлялась — в политике ли, в математике, в религии, или даже в рекламе — продолжает оставаться одушевляющим началом всего движения человечества в целом. Другой же взгляд, не менее обманчивый, заставил бы нас отметить противоположную ее черту: никогда еще не проступал так явно ее символический характер. Ирония революций состоит в том, что они порождают власть тем более абсолютную в своих проявлениях не оттого, что, как считают многие, она более анонимна, а оттого, что она в большей степени сводится к означающим ее словам. И более чем когда-либо, с другой стороны, власть церквей обусловлена языком, который они сумели сохранить — момент, который, надо сказать, остался несколько в тени у Фрейда в той статье, где он описывает то, что мы назвали бы коллективными субъективностями церкви и армии.
Психоанализ сыграл определенную роль в ориентации современной субъективности, и он не сможет сохранить эту роль, не согласовав ее с тем направлением современной науки, которое вносит в нее ясность.
В этом и состоит проблема основания, которое должно обеспечить нашей дисциплине подобающее место среди других наук: проблема формализации, по сути дела совсем еще не разработанная.
Ибо похоже, что теперь, когда медицинское мышление, в борьбе с которым складывался некогда психоанализ, вновь возобладало в нем, нам, чтобы догнать науку, предстоит, как и самой медицине, преодолеть отставание на добрых полвека.
В абстрактной объективации нашего опыта на фиктивных, а то и вообще симулированных, принципах экспериментального метода, мы видим результат предрассудков, от которых наше поле необходимо очистить, прежде чем мы начнем разрабатывать его в соответствии с его подлинной структурой.