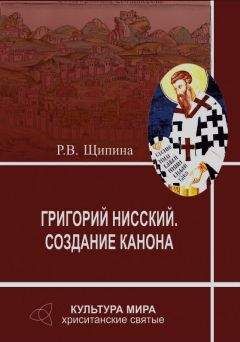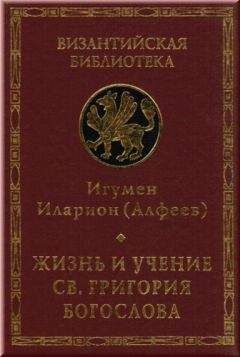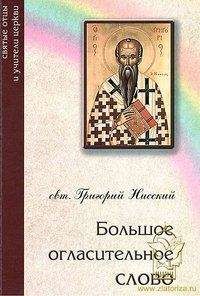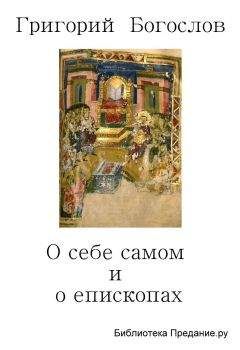Виктор Несмелов - Догматическая система святого Григория Нисского
Крайняя скудость человеческой мысли и воображения не позволила даже божественному откровению поведать нам бедным человеческим языком учение о будущем царстве. По этой же причине и св. Григорий Нисский никогда не решался нарисовать полную картину ожидаемого царства, ограничиваясь лишь краткими, отрывочными указаниями некоторых отдельных моментов его. Вся сущность его учения по этому вопросу может быть передана в нескольких словах. Когда соединится пред престолом Божиим вся разумная тварь, то первым движением её мысли и чувства будет слово благодарения Богу Спасителю за уничтожение зла и за восстановление всех в первобытное состояние. И ангелы, и люди, все вместе воспоют торжественную победную песнь Сыну Божию, и это пение составит момент открытия вечного царства [1085], характеристическим признаком которого служит ничем не омрачаемое блаженство. Сущность этого блаженства, по мнению св. Григория, состоит в непосредственном зрении Бога, или — в возможности познания Сущего [1086]. „Кто, — говорит он, — зрит Бога, тот в этом зрении имеет уже все, что состоит в списке благ: нескончаемую жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, нескончаемое царство, непрекращаемое веселие, истинный свет, духовную и сладостную пищу, неприступную славу, непрестанное радование и всякое благо“ [1087]. Если же тогда откроется всякое благо, то само собою понятно, что должен наступить конец всем человеческим желаниям, потому что настоящее превзойдет собою все желаемое и ожидаемое, и оставит в силе одну только вечно торжествующую любовь.
Так как св. Григорий рассматривает все, главные и второстепенные, вопросы христианской эсхатологии под оригеновскою точкою зрения абсолютно–благих божественных целей бытия, — то вполне понятно, что как в общем, так и в частностях его мнение вполне совпало с мнением Оригена, и его учение представляет собою не иное что, как только полное и совершенное развитие данного Оригеном представления. Такое близкое сходство эсхатологии св. Григория с эсхатологией Оригена давно уже заставило выдвинуть интересный вопрос о степени родства обеих этих эсхатологий. Древние церковные писатели почти единогласно отвечали на этот вопрос категорическим отрицанием всякого родства и сходства между учением св. Григория и учением Оригена. Но так как в действительности это сходство было очевидно и поражало всякого именно своею очевидною близостью, — то всем его отрицателям волей–неволей пришлось дать по этому поводу необходимое разъяснение. В этом случае мнения разделились. Одни, как например — свв. константинопольские патриархи Герман и Фотий, смущаясь не–церковным раскрытием и решением эсхатологических вопросов у св. Григория, признавали эсхатологические трактаты его интерполированными от оригенистов; другие же, как например — свв. Феодор Студит и Максим Исповедник, признавали в этих трактатах особенную высоту философских умозрений св. Григория, и потому считали необходимым только комментировать его учение. Мнение об интерполяции творений св. Григория разделялось некоторыми учеными и новейшего времени [1088]; но нужно сознаться откровенно, что для него нет совершенно никаких оснований, кроме благочестивого желания оправдать знаменитого отца церкви от таких ошибок, которые торжественно были анафематствованы вселенскою церковью [1089]. Правда, патриарх Герман писал специальное сочинение ('Ανταποδοτικός) для доказательства той мысли, что оригенисты испортили творение св. Григория; но это сочинение не сохранилось до нашего времени, и мы совершенно не знаем, указал ли патриарх те места в творениях св. Григория, которые, по его мнению, были испорчены оригенистами, или же ограничился одним только голословным утверждением. Патриарх Фотий, оставивший в своей Библиотеке рецензию на 'Ανταποδοτικός не указывает этих мест, хотя и разделяет мнение Германа [1090]. По нашему мнению, таких мест и указать нельзя. Оригенистические идеи рассеяны на пространстве всех эсхатологических трактатов св. Григория, — рассеяны так, что и по внутренней, логической связи рассуждения, и по внешнему, грамматическому строю речи, они нисколько не выделяются и не могут быть выделены из цельных трактатов без совершенного их искажения. Устроить такую искусную подделку нельзя; гораздо легче написать новый трактат, чем в чужой трактат вложить свою идею и заставить автора этого чужого трактата подписаться под ней. Ввиду этого, совершенно справедливо мнение об интерполяции творений св. Григория отвергалось еще в древнее время. Св. Феодор Студит и Максим Исповедник, как было уже выше замечено, видели в эсхатологических трактатах св. Григория не следы воровской руки оригениста–интерполятора, а высоту философских умозрений св. отца. Они признавали его учение вполне православным, только мало понятным для обыкновенного читателя, почему и считали необходимым его комментировать [1091]. Но комментаторы или не поняли, или намеренно отвергли основную оригеновскую идею св. Григория об универсальном плане спасения, и, вследствие этого, вместо комментария старались вложить в творения св. Григория свои собственные идеи. По толкованию св. Максима, св. Григорий будто бы учил, что душа грешного человека в течение многих веков своего мучения познает наконец свое заблуждение, исповедует, что порок не от Бога, и таким образом истинно придет к беспредельному Богу, — но чрез это обращение вовсе не сподобится блаженства, а все равно останется в определенных ей муках. Такое толкование а) неверно, потому что св. Григорий очень ясно учил не о чем либо ином, а именно о всеобщем блаженстве, и b) нелогично, потому что допускает возможность обращения грешника к Богу и налагает совсем непонятное запрещение на проявление божественной любви. Гораздо вернее поступил св. Марк Ефесский, признавший в эсхатологии св. Григория погрешности философа, не относя их к догматическому учению св. отца церкви.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При изложении догматической системы св. Григория Нисского было предположено с возможною подробностью выяснить один из основных вопросов настоящего исследования: как и насколько св. Григорий успел осуществить на практике свой идеал христианского философа, — т. е. как именно и насколько он успел сделать христианское богословие научно–философским и древнюю философскую науку христианской? Решение этого, важного по отношению к личности св. Григория, вопроса идет на пространстве всего сочинения, дается именно во всем подробном изложении и объяснении церковно–христианских мнений св. отца — в связи с нецерковными и даже прямо противоцерковными рассуждениями разных христианских и полухристианских философов. Но так как естественное желание полнее и яснее изложить и раскрыть богословские положения св. Григория с точки зрения особенных обстоятельств IV века необходимо должно было повести к многочисленным подробностям, — то решение поставленного вопроса иногда стушевывается и даже как бы совсем исчезает, — так что для более удобного построения необходимых выводов из общей массы всех частных рассуждений будет далеко не излишним делом бросить один общий взгляд на внутренние философские основы религиозных движений IV века — с одной стороны, и на влияние их на внутренний характер и направление богословской мысли св. Григория — с другой.
Из самого изложения догматической системы св. Григория Нисского, кажется, достаточно ясно то общее положение, что его богословское учение во всех своих главных частях и характерных особенностях было раскрыто им и формулировано в полемике с двумя главными религиозными движениями IV века: со специально — богословским движением арианства и со специально–христологическим движением аполлинаризма. Арианство, как известно, даже в подробностях совпадало с учением древнего евионизма, внутреннею основою которого была неправильная иудейская мысль о полной спасительности моисеева закона и, следовательно, о ненужности особого Лица Бога Спасителя, при несомненном бытии личного Бога Законодателя. Если бы мы не захотели ограничиться простым указанием на этот факт, а попытались еще вскрыть его внутренние основы, то оказалось бы, что древний евионизм с своими законными предписаниями был не иное что, как своеобразное, возросшее на иудейской почве, философско–богословское учение о самодовольстве человеческой воли: „человек все может сделать, так что ему нужно только указать, что нужно делать“ — вот основная, при всей своей ложности однако капитальная, идея древнего евионизма. Очевидно, в нем была своя здравая логика, и потому с формальной стороны он несомненно был явлением правильным, т. е. стройно и законно организованным. Не таким он явился у Ария, в учении которого совершенно законно была отвергнута ложная иудейская мысль о полной спасительности моисеева закона, здание же евионизма принято без всяких капитальных изменений, — и таким образом явилась система без основного разумного начала. Правда, Арий с первого же раза решил опереться на монархианскую идею единоличного Бога, — но эта опора была безусловно недостаточна, потому что для выбора между тринитаризмом и монархианизмом Арий не имел и не представил никакого, хотя бы только формально–законного, основания. Древнему евиониту можно было говорить об единоличном Боге, когда он без всякого колебания мог объявить, что других лиц в Божестве совсем не нужно: но нельзя было утверждать этого Арию, потому что в борьбе с савеллианством он ратовал за троичность Лиц, и, однако же, вопреки тринитаризму, опирался на монархианизм. Очевидно, Арий не вполне сознавал истинные внутренние отношения своего учения к учению древних евионитов, а вместе с тем не вполне сознавал и действительную внутреннюю идею, за которую он ратовал. Эту идею вполне сознавал и точно выразил только Евномий. „Вы, — писал он св. Василию Великому и св. Григорию Нисскому, — дерзаете учить и мыслить невозможное“ [1092]. В этих немногих словах вполне выражается вся внутренняя сущность арианства. Подобно древнему евионизму, опиравшемуся на ложную идею о самодовольстве человеческой воли, арианизм выставил новое ложное положение о самодовольстве человеческой мысли. С точки зрения Евномия, истинно только то, что принимается за истину человеческою мыслью, так что даже само божественное откровение не может стоять выше этого верховного суда человеческой мысли. Отсюда, и откровенное учение о троичности божеских Лиц при нераздельном единстве божественной сущности должно получить смысл и значение непререкаемой истины только по суду богословствующего разума арианских философов [1093]. Здесь лежит единственный внутренний мотив арианского рационализма и действительное внутреннее основание всего арианского богословия.