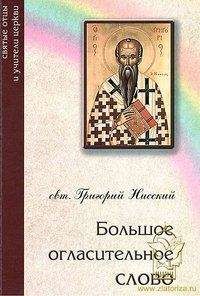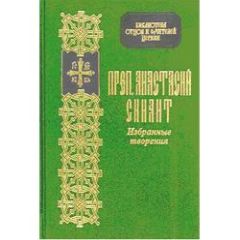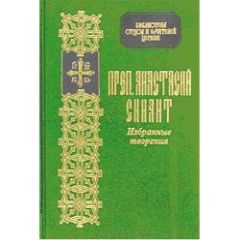Григорий Нисский - Избранные творения
56. Но перейдем к тому, что следует в сочинении Аполлинария далее. «Как, — говорит, — Бог соделывается человеком, не переставая быть Богом, если (Бог) не заступает место ума в человеке»? Понимает ли он, что говорит? Называет Бога неизменяемым, и это говорит справедливо, ибо что всегда само себе равно, то, естественно, не может быть чем–либо иным, нежели что оно есть; в ином быть может, но само иным не бывает. Итак, что же был оный ум, находившийся в человеке, как говорит Аполлинарий? Удержал ли он за собой величие неизменяемого естества или перешел в низшее состояние, заключив себя в границы человеческой малости, так что какова она, таким же сделался и он? Но в таком случае человеческий ум равен Божеству, если, то есть как говорит Аполлинарий, Божеское естество стало умом. Ибо если человеческое естество одинаково принимает ум ли наш или вместо ума Бога, то по величию и по значению они будут равны между собой, так как в чем вмещается ум, в том же может заключаться и Божество. Если кто каким–нибудь пустым сосудом станет измерять пшеницу или другие какие–либо зерна, то никто не скажет, чтобы измеряемое одной и той же мерой по количеству было различно от другого, потому что мера пшеницы будет равна мере овса, когда по высыпании этих зерен сосуд будет наполнен другими. Так если Божество заменяет ум, то никто не может сказать, что Оно превосходнее ума, потому что и Божество, также как и ум, вмещается в человеческом естестве. Итак, ум или равен Божеству, как хочет того Аполлинарий, и, заменив собой ум, Оно не изменилось, или он ниже Божества, и Божество, став умом, изменилось в худшее состояние. Но кто не знает, что все почитаемое сотворенным равно низко в сравнении с недоступным и непостижимым Естеством, так что одинаковое допустит изменение в Божестве, скажет ли кто, что Оно изменилось в ум или в тварь? Таким образом, если Аполлинарий не допускает, что Божество изменилось, заступив место ума, то этим он не признает изменяемости в соединившемся, когда Он срастворился с человеком, лишенным разума. Но если Божество не изменилось, став плотью, то тем более осталось неизменным, срастворившись с умом. Если же бытие (Божества) вместо ума доказывает Его изменение, то и обитание во плоти не избежит, конечно, обвинения в изменении.
57. Еще говорит (что заключается у него в средине речи, я опускаю): «если Он по воскресении соделался Богом и уже не есть человек, то как Сын человеческий пошлет ангелов Своих? И как мы узрим Сына человеческого, грядущего на облацех? Как и прежде, нежели соединился с Богом и Сам соделался Богом, говорит: «Аз и Отец едино есъма» (Ин. 10:30)?». Это все он приводит в доказательство того, что телесная природа нисколько не изменилась во что–либо более божественное, но что власы, ногти, вид, образ, объем тела и все прочие как внутренние, так и внешние части тела во Христе (остаются неизменными). Я излишним считаю рассуждать о том, что не должно иметь такие низкие и грубые понятия о Боге, потому что речь противников и сама по себе ясно проповедует нелепость сего мнения. Впрочем дабы кто–нибудь не подумал, что Божественные речения сами подают ему повод вымышлять такие нелепые басни, я кратко прослежу каждое из вышеупомянутых изречений. Поелику, говорит, при конце мира посылающий ангелов называется Сыном человеческим, то, думает он, должно верить, что и всегда будет иметь человеческие свойства. Но он не помнит евангельских слов, где часто Сам Господь Бога, над всем Сущего, именует человеком. «Человек бе» дому владыка, отдавший виноградник «делателем» и по убиении рабов пославший и единородного сына своего, которого делатели, изведши вон из виноградника, убивают (Мф. 21:33—40). Кто это был «оный человек», пославший единородного? Кто сын, убитый вне виноградника? Не он ли также представлен в Писании человекообразно, устрояющим брак сыну (Мф. 22:2)? Должно сказать и то, что Господь, желая помочь немощи тех, которые, мало ценя видимое в Нем подобное себе человеческое естество, не могли посему уверовать в Его Божество, говорит, что при (последнем) суде Сын человеческий пошлет ангелов с той целью, чтобы, поразив страхом, укрепить в вере слабые умы их и ожиданием страшных (явлений) уврачевать их неверие относительно того, что они видели; и узрите, говорит, «Сына человеческаго, грядуща на облацех небесных с силою и славою многою» (Мф. 24:30). И это совершенно согласно как с тем, что мы выше говорили о человеке, насадившем виноград и устроившем брачный пир для сына, так и с данным нами прежде изъяснением. А что сии слова Писания нисколько не благоприятствуют уничижительному мнению Аполлинария, и указанное изречение не подает никакого повода представлять во Христе что–нибудь телесное, это ясно доказывается тем, что к словам, в которых указывается на явление Его при конце веков, присовокупляется, что Господь явится твари «во славе Отца Своего» (Мф. 16:27); так что из сих слов необходимо следует заключить, что или и Отец также имеет человеческий вид, если имеющий явиться в человеческом виде Сын явится во славе Отца, или если величие славы Отчей чуждо всякого образа умопредставляемого видимо, то и Тот, Который обещает явиться во славе Отца, также не должен быть представляем в человеческих чертах; ибо иная есть слава человека и иная слава над всем сущего Бога. «Но, — говорит, — беседуя с людьми во плоти, сказал: «Аз и Отец едино есьма» (Ин. 10:30)». Безумие — почитать доказательством явления Господа при конце мира в человеческом виде то, что Он, находясь во плоти, говорил: «Аз и Отец едино есьма». Итак, сим своим умозаключением он, конечно, утверждает, что и Отец точно так же живет во плоти. Ибо если сказавший, что Он и Отец едино, дает разуметь о единстве по духу, но по плоти, как думает Аполлинарий, то посему Отец есть то же самое, чем являлся тогда по человечеству Сын. Но Божество мы разумеем чуждым всякой телесности, посему единство Сына с Отцом было не по человеческому виду, но по общению Божеского естества и могущества. А что это подлинно так, особенно видно из слов, которые Христос говорил Филиппу: «видевый Мене виде Отца» (Ин, 14:9), ибо точным уразумением величия Сына открывается нам, как в образе — Первообраз.
58. Чтобы напрасно не терять времени над пустяками, я опущу следующие за сим бессвязные и не вполне понятные его речи, в которых даже внимательно следящим за его сочинением не ясно, что он хочет сказать. Каким образом (например) служат у него доказательством его мнения слова: «что никто не может похитить из рук Его овец, данных Ему Отцом», я не могу понять. Также следующее: «Отческим Божеством привлекает к Себе овец»; и еще: «если Христос прежде воскресения был соединен с Отцом, то как Он не был соединен с Богом, Который в Нем»? Сие последнее он как бы с намерением в обличение своего вымышленного учения помещает между своими рассуждениями, которыми доказывает и разделение человека с Богом, и соединение с Ним. Ибо он говорит, что «если Христос был соединен с Отцом, то как не был соединен с Богом, Который в Нем»? Таким образом, человек Христос, будучи иным, соединен был с Богом, Который в Нем. Это, как само собой чрез одно чтение показывающее ложь и несостоятельность его учения, я опускаю. Упомяну только о следующем: «Спаситель, — говорит, — терпел голод, жажду, труд, томление и скорбь». Кто же сей Спаситель? Бог, говорил он пред сим, не два лица, как бы одно было Бог, а другое — человек. Итак, Бог терпел все то, что, по его словам, терпел Оный (Спаситель). «И страдает то, что недоступно страданию, не по необходимости (αναγκη) естества невольного, как человек, но по следствию (ακολεθια) естества». Достанет ли у кого охоты опровергать сию нелепость? В чем находит он различие между необходимостью естества и следствием естества? На самом деле оба эти понятия имеют одинаковое значение. Если, например, я скажу: такой–то имеет слабое зрение, следовательно, он болен глазами, или иначе выражу то же самое: такой–то имеет слабое зрение, итак, необходимо, он страдает глазами, — не одинаковый ли смысл будет в обоих сих выражения Указавший на необходимость указывает на то, что вытекает по следствию, и упомянувший о следствии показывает необходимость. Итак, что значит мудрование нашего сочинителя, по которому он страдания (на естества хочет приписать Спасителю «не по необходимости естества, но по следствию естества»? «Должно было, — говорит, — подвигнуться на страдания по подобию людей». Сказавший: «должно было», не ясно ли указал необходимость? Не так ли употребляет сие слово и Писание? Даже у самих евангелистов можно найти доказательство сего: «нужда бо есть приити соблазном» (Мф. 18:7), «подобает бо всем сим быти» (Мф. 24:6). Не ин ли смысл заключается в том и другом изречении? Сказавший, что «нужда есть прийти соблазном», выразил сим, что соблазны должны прийти; кто сказал, что «подобает сим быти», дал знать, что долженствующее быть необходимо осуществится на деле.