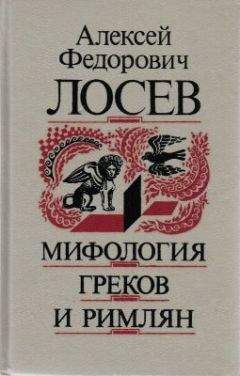Алексей Лосев - Античный космос и современная наука
В замечательном учении Плотина о времени в особенности важны три стороны: критика пространственного понимания времени, связь времени с вечностью и диалектика вечности. В первом отношении Плотин вполне совпадает с Бергсоном, на что в последнее время хорошо указал W. R. Inge, The philosophy of Plotinus. New York, 1923, I 174—177, напомнивший учения Бергсона o la durée, о необратимости, о «взаимопроникновении», об «интенсивности» времени и т. д. Во втором и в третьем отношении Бергсон слишком натуралистичен и недиалектичен, и об умной вечности он не может учить уже по одному тому, что разум ему представляется исключительно в виде рассудочных схем и мертвых копий действительности. Однако никто, как Бергсон, не приблизился в наши дни к понятию времени как алогического становления умной вечности. La durée, в интерпретации Бергсона, не подчеркивая моментов ума, вечного, парадейгмы и пр. диалектических моментов времени, прекрасно выдвигает момент именно алогического становления.
Damasc. рг. рг., 112 (время — отражение вечного, измеряющее небесные явления), 140 (измеряющая, но не измеряемая целостность), 138 (невременность времени и самоизмеряемость, ср. 381), 387 (время и космос), 388 (диалектика времени в связи с понятием демиурга и автозона, ср. 331). Непосредственным продолжением и развитием Плотинова учения о времени (в свою очередь построенного на объединении Plat. Tim. 37с—38b, ср. 42d, 47а, и Arist. Phys.) являются Проклова концепция, вводящая в учение о времени точку зрения динамически–смысловой эманации (Leisegang. Op. cit., 34—48), и уточнения Дамаския, по которому (как и у Прокла) различается вечность как вторая ступень ума όλότης — αιών — ζωή, т. е. то, что есть εν πάντα (после εν δν όμοΰ), и вечность как третья ступень, т. е. как πάντα εν, переходящая от «парадейгмы» к «иконе» в качестве времени, а время может быть изображено в след, строго диалектической концепции (Leisegang, 56):ή ενέργεια.
Обратное — натуралистическое — учение о времени, находящее в вышеприведенных главах из III 7 Плотина беспощадную критику, принадлежит стоикам, с удивительным упорством повторяющим его почти без всяких вариаций. Я приведу — Stob. Eclog. I 106,5 W. о Хрисиппе, по которому время — κινήσεως διάστημα καθ’ о ποτέ λέγεται μέτρον τάχους τε καί βραδύτητος (SVF Arnim II 509); Phil, de incorrupt, mund. 238,5 В время — διάστημα τής του κόσμου κινήσεως,// промежуток движения, в соответствии с которым дается мера быстроты и медленности… промежуток движения космоса (греч.). // cp. ibid. 238,11 и 13 (Arnim, ibid.); Simplic. in Aristot. categ. 88 Z ed. Bas. — то же о Зеноне и Хрисиппе (Агп., 510); Philo de mundi opif., § 26. I 8,7 Wendl. (Am., 511); Sext. adv. mathem. X 170 (Arn., 513); Aet. Placit. I 22,7 (Am., 514); Simpl. in Arist. phys. 700,16 D. (Arn., 516); Diog. Laert. VII 140 (Arn., 520) —везде в этих текстах буквально одно и то же определение времени. Попадаются квалификации времени как акциденции сущности, как, напр., Plut. quaest. Plat. 8, 4, 1007а (Агп., 515) или Procl. in Plat. Tim. 271 d (Arn., 521), что в устах стоиков имеет тот же смысл.
224
Прекрасной школой для этого может служить Plot. II 4, некоторые главы из которой стоит вспомнить здесь, при переходе от тетрактиды А к тетрактиде В. Прежде всего, материя, по его учению, неопределенна. Она бескачественна и не есть тело. Прочитаем — II 4, 8. «Ясно, что, если она действительно бескачественна, она не есть тело; в противном же случае она будет иметь какое–нибудь качество. Если же мы говорим, что она — материя для всего чувственного, а не материя для одного и эйдос для другого, как и глина есть материя для горшка, а вообще она вовсе не материя, то, относя ее не к специфической вещи, но ко всем вещам [вообще], мы не можем ничего и привносить в нее такого, что видится в чувственно–ощущаемом. И значит, раз так, то, не говоря уже о прочих качествах, как, напр., краски, теплота, холод, [мы не можем привносить в нее] ни легкость, ни тяжесть, ни плотность, ни разреженность, и даже вообще никакую фигурность (σχήμα), а стало быть, и никакую величину, ибо одно — быть величиной и другое — быть определенным через величину; одно — быть фигурой, другое — быть определенным через фигуру. Материя необходимо должна быть не сложной, но — простой и по своей природе неделимой (εν τι), ибо только таким образом она от всего пуста. И кто наделит ее формой (μορφήν) — даст ей форму как нечто отличное от нее, как бы привнося в нее из [сферы] сущего и величину, и все [прочие качества]». В II 4, 9 критикуется количественность материи; материя — не количественна. Она ухватывается не прямо, но лишь в сложении с эйдосом, как и всякая тьма, и «душа страдает от этой беспредельности, страшась оказаться вне сущего и не вынося долговременного пребывания в небытии» (II 4, 10). Также материи несвойственна и масса. «Неопределенность (άοριστία) ее и есть… масса, восприемница величины в ней» (II 4, 11). Не есть она какая–нибудь вообще телесность. «Ведь если телесность есть (некоторая] осмысленность (λόγος ή σωματότης), то эта последняя — иное, чем материя, и она, стало быть, отлична (от телесности]. Если же [телесность] уже обработала [материю] и как бы смешалась с ней, то, очевидно, получается [уже] тело, а не просто материя» (II 4, 12).
Плотин отрицает за материей какую бы то ни было качественность и отчетливейшим образом формулирует возможные здесь возражения. Он пишет (И 4, 13): «Что же препятствует тому, чтобы материя, хотя и бескачественная в силу непри–частия по своей природе ни к какому качеству, все же была бы неким вполне определенным индивидуальным обстоянием (ποιάν είναι ιδιότητα πάντως τινά) именно в силу этого непри–частия ни к какому качеству, будучи, напр., некоторой лишенностью (στέρησιν) этих качеств? Ведь и лишенный ознаменован качественно (ποιός), как, напр., слепой. А если лишенность качеств можно приписать материи, то каким же образом она не качественна? Если же ей свойственна вообще лишенность, то [это нужно сказать] еще с большей силой, если только, конечно, лишенность есть некая окачествованность. Если кто–нибудь так рассуждает, то что же иное он делает, как не превращает все в окачествованности и в качества, так что и количество делается качеством, и самая сущность? И если имеется в виду окачест–вованное, то [тем самым] привходит [и] качество. Однако смешно делать окачествованным то, что отлично от окачествованного и есть не–окачествованное. Если же [принимать здесь] окачество–ванное [только] на том основании, что [материя — нечто] иное, то и этого нельзя делать, пусть [даже] она будет [самостоятельным бытием] инаковости в себе (αύτοετερότης), так как такое качество не есть нечто окачествованное. Если она — только иное, то [это происходит] не в силу ее самой, но иная она — в силу [самой] инаковости, и та же — в силу [самой] тождественности. Стало быть, лишенность не есть ни качество, ни окачествованность, но — отсутствие качества или чего–нибудь другого, как и тишина есть отсутствие шума или чего–нибудь другого. В самом деле, лишенность есть отрицание (αρσις), окачествованное же находится в сфере утверждения. И собственное специфическое свойство материи не есть [та или иная] форма (μορφή), ибо [ей свойственно именно] быть не–окачествованным и не иметь никакого эйдоса. Значит, абсурдно называть ее окачествован–ной на том основании, что она не–окачествованна, подобно тому как если приписывать ей величину именно по тому самому, что ей несвойственна величина. Ее специфическое свойство, значит, заключается не в чем ином, как в том, что она есть и что специфическое свойство не прибавляется к ней [в качестве атрибута], но заключается скорее в ее отношении к другим вещам, а именно в том, что она иное в сравнении с этими вещами. При этом другие вещи суть не просто другие, но каждая вещь содержит в себе особый эйдос; материя же подобающим образом может быть определена как только другое [иное, т. е. без эйдоса], или, пожалуй, как вообще иное, чтобы, через употребление единственного числа, не вносить определенность, но чтобы показать [именно] отсутствие определения, через употребление наречия «вообще», в материи». [Плотин вместо αλλο хочет поставить αλλα, т. е. вместо ед. ч. — множ. По–русски лучше передать — первое как «иное», второе как «иное вообще», так как перевод «иные» как раз указывал бы на определенные вещи.]
Еще более ясную и яркую характеристику получает понятие материи, когда Плотин критикует понятия инаковости и лишенности — в качестве атрибута. Отнюдь нельзя думать, говорит он, что материя есть нечто одно, а лишенность есть нечто другое, а именно некий атрибут, ей приписываемый, как, напр., огонь есть вещь, а теплота — его атрибут. Даже в том смысле нельзя утверждать единство субстрата с лишенностью и двойство смысла материи и лишенности, что «лишенность не указывает на присутствие, но указывает на отсутствие и есть как бы отрицание сущего, как если бы кто–нибудь говорил о не–существующем» (И 4, 14). «Ведь отрицание ничего не прибавляет, но утверждает, что нечто не существует. Значит ли это, что лишенность есть [нечто фактически] не существующее [ούκ δν]? Если [мы допустим] это «не существующее» на том основании, что оно не есть нечто существующее, но есть нечто другое, то тогда мы получаем опять два смысла, [определения — λόγοι], один — относящийся к субстрату, [материи], другой же — к лишенности и указывающий на отношение к другим вещам. Или лучше: один есть определение материи в ее отношении к другим вещам и также субстрата в его отношении к другим вещам; другой же — определение лишенности, — пожалуй, сам подходит к ней скорее в смысле указания на неопределенное. Впрочем, и в том и в другом случае [субстрат лишенности и сама лишенность] суть по субстрату одно, по смыслу же — два. Но если лишенность тождественна с материей своей неопределенностью, безграничностью и бес–качественностью, то как же [тут может быть] два определения?»