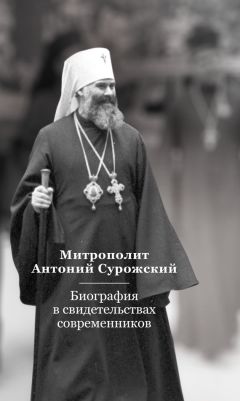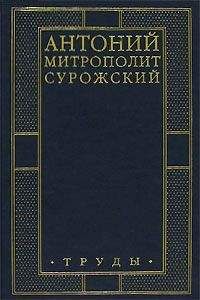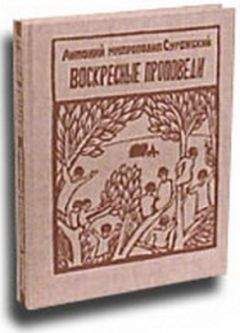Митрополит Антоний Сурожский - Человек перед Богом
Я не знаю, ужасает ли вас такой подход, но я к этому пришел постепенно очень сильным переживанием — ну, сколько я умею переживать…
Можно ли Вас так понять, что в тот момент, когда Христос переживал эту полную богооставленность, Он переживал в самом предельном смысле человечность?
Нет, я бы так не сказал, потому что человек, как Бог его задумал и создал, не был оторван от Него. Оторванность — плод нашей греховности. Но Христос не вступает в область нашего греха, то есть Он приобщается не греху, а его последствиям. Мне кажется, что Христос, с одной стороны, выбрал абсолютную солидарность (если можно употребить такой небогословский термин) с человеком и должен был вместе со всем человечеством испытать богооставленность и потерю Бога и от этого умереть; и, с другой стороны, потому что Он выбрал бескомпромиссную солидарность с Богом, Он был извержен человеческим обществом и должен был умереть вне стен, то есть вне града человеческого, на Голгофе.
В этом направлении мы находим, может быть, картину, реализацию того, о чем говорит Иов: Где тот, кто станет между мной и Судьей моим, положит руку свою на Его плечо и на мое плечо? Где тот, который станет именно в середину, в сердцевину трагедии, которая разделяет Бога и человека? (см. Иов 9, 33). И Бог-Слово вступает в эту сердцевину во всех отношениях, плотски и душевно, и в Себе, внутри Себя совмещает рознь и примирение. Он до конца человек — Он до конца Бог; и то, что между Богом и человеком проходит как явление между двумя лицами, в Нем сосредоточено в одном Лице, и в одном Лице эта проблема разрешается. Но исторически, то есть физически она разрешается отвержением со стороны человеческого общества и богооставленностью.
И у меня вдохновляющая надежда, что можно осмыслять — я не говорю: атеизм во всех его элементах, — но что есть какие-то поиски, которые надо совершать. Не говоря уж о том, что очень многое в безбожии рождено не отрицанием Бога, Какой Он есть, а Бога, Каким мы Его представляем. Если взять историю христианского мира, то можно отшатнуться. Мы так часто — и в нашей отечественной истории, и на Западе — представляли Бога в таком виде, что можно сказать: я не могу признать в Нем свой идеал.
Я как-то прочел лекцию на тему "Бог, Которого я могу уважать". Если бы я не мог уважать Бога, будь Он или не будь, я не выбрал бы Его как своего Господина. Я могу уважать Бога именно ради Воплощения и того, что случилось. А Бога, Которого боятся, перед Которым раболепствуют, — нет, слава Богу, человек не согласен принять, потому что и Бог не согласен, чтобы к Нему так относились; Бог не может нас принять как рабов. Я читал ряд лекций в Кембриджском университете на тему "Бог, Каким я Его знаю"; я выбрал такую тему, потому что она мне позволяла говорить только о том, в чем я уверен, без того чтобы кто-нибудь мог мне сказать: да, но вы не осветили такие-то и такие-то стороны… — о которых я по необразованности, может быть, и понятия не имею, не слыхал. Так вот, я попробовал показать, что Бог достоин нашего уважения, что это не только Бог, перед Которым мы преклоняемся, потому что Он Бог, но такой Бог, Которому можно отдать свою жизнь.
Теодицея потому так часто бывает слабой, что стараются "оправдать" Бога на таком уровне, на такой плоскости, где из Бога делают образ человека, и ничего не остается от Бога в Его величии. Конечно, Бог не требует от нас и не ожидает от нас только поклонения. Когда апостол Павел говорит: Мы стали Богу свои (см. Еф. 2,19), когда Христос после воскресения говорит Марии Магдалине, имея в виду апостолов: Иди и скажи братии Моей (см. Ин. 20, 17), — это значит, что мы стали Ему настолько свои и родные, что должны бы Его знать достаточно; и для этого мы должны продумывать то, что знаем о Нем, ставить перед собой вопросы. Опять-таки, мы грешим против Бога, когда встает вопрос и мы его решаем против Бога без размышления, так же как атеист, потому что в нас есть какая-то доля неопытности, отсутствия опытного знания. Но я не думаю, чтобы Бог гневался, когда мы Ему говорим: Я Тебя не понимаю… Мы легко, часто "оправдываем" Бога: ну, конечно, я недостоин… Само собой разумеется, что мы и вправду часто недостойны, но это можно и в скобки взять, и поставить вопрос себе о Боге или перед Богом в молитве: Господи, я Тебя не могу понять, и это непонимание стоит между Тобою и мной — помоги!.. Мы могли бы в каких-то наших решениях ошибаться, но пока наша ошибка заключается в том, что мы ощупью ищем настоящего ответа, мы не подпадаем под осуждение; осуждение начинается там, где мы просто для удобства или почему-либо еще отказываемся от истины, потому что слишком дорого стоит ее искать
"Вечность мук" или "уверенность надежды" во всеобщем спасении?
Владыко, что вы можете сказать о своем отношении к учению, которое говорит, что грешники будут прощены в конечном итоге и что ад несовместим с представлением о вечности? В частности, Бердяев настаивал на том, что учение об аде имеет скорее психологическое значение, чем богословское.
Это колоссальная тема! В двух словах я могу ответить так: уверенность в спасении всех не может быть уверенностью веры в том смысле, что в Священном Писании нет ясного, доказательного утверждения об этом, но это может быть уверенностью надежды, потому что, зная Бога — каким мы Его знаем, — мы имеем право на все надеяться. Это очень коротко, но достаточно точно выражает то, что я думаю.
Если немного это развить, я думаю, можно сказать несколько основных вещей. Во-первых, в языковом порядке. По-русски, когда мы говорим "вечное", мы имеем в виду разные вещи: мы говорим, что Бог "вечен", и мы говорим "свой век вековать". В одном случае мы говорим о Боге, указывая на то, что у Него нет ни начала, ни конца, что вечность Божия беспредельна, вневременна, надвременна; во втором случае выражение "век вековать" значит прожить ограниченное количество времени. И когда вы читаете Священное Писание и отцов Церкви, встает вопрос о том, что мы хотим сказать, когда употребляем слово "вечность", применяя его к Богу или к твари. В некотором смысле, нет соизмеримости между Божией вечностью и тварной вечностью: тварная вечность укладывается в пределы времени; Божия вечность никакого отношения к времени не имеет. Когда мы говорим, что Бог вечен, мы не говорим о каком-то длении; это одно из выражений, которое значит: Бог, какой Он есть.
Если обратиться к Священному Писанию, когда говорят о Суде, постоянно приводится тот или иной текст, как будто он единственный и самодовлеющий. Текст, который всегда приводится, — это притча о козлищах и об овцах (см. Мф. 25, 31–46). Если мы себе ставим вопрос об этой притче, мне кажется, что мы ошибаемся, если думаем, будто центр тяжести, смысл этой притчи — описать вечную судьбу одних или других. Центр тяжести притчи не в том, чтобы сказать, что одни пойдут в огонь вечный, а другие — в радость вечную, а чтобы указать, на каком основании этот суд происходит. Прочтите, и вы увидите, что тема поставлена драматически — как суд; но урок, который при этом извлекается (больных не посещал, голодных не кормил и т. д.), можно свести к такой фразе: если ты человечным не был, просто — человеком не был, не воображай, что ты божественным будешь.
Вот, в сущности, мне кажется, тема этой притчи, гораздо более чем описание овец и козлищ. Но даже если понять эту притчу как притчу о критериях суда — что мне кажется более верным, — а не просто о суде, то надо ее сопоставить с другими притчами, другими высказываниями Христа. Христос с тем же авторитетом нам говорит: совещавайся со своим соперником, пока ты на пути, как бы он тебя не предал судье, а судья — истязателю, и не посадил бы тебя в темницу; и не выйдешь ты из нее, пока не выплатишь последнюю полушку (см. Лк. 12,58–59). Это уже вовсе не говорит о том, что грех имеет своим результатом вечное мучение. Из этой дилеммы католики выходят тем, что козлища и овцы определяют ад и рай, а этот период тюремного заключения — чистилище. Но это — измышление; справедливо оно или нет, но это плод человеческого творчества, это не сказано. Если мы принимаем всерьез одно место, мы должны также принимать интегрально серьезно другое. Апостол Павел говорит, что когда все будет завершено, Христос предаст Свою власть в руки Отца, и тогда будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Этим он говорит что-то очень определенное: все во всем не значит "нечто в некоторых" или "все в немногих". Опять-таки, Иоанн Златоуст выходит из положения, объясняя, что те, которые согрешили и будут козлищами, будут как бы призраками, в них не будет реальности, и поэтому Бог будет все во всех — в тех, которые имеют реальность… Если бы такое объяснение не принадлежало Иоанну Златоусту, я бы сказал: это передергивание, потому что текст ничего подобного не говорит; это способ объяснить в пределах предвзятого богословия текст, который иначе не объясним. Но было бы, вероятно, и добросовестнее, и более творчески сказать: не понимаю!.. Это было бы очень просто; и все бы это приняли, потому что никто не ожидает, что все до конца понятно. Есть и другие места, но достаточно и этих трех примеров.