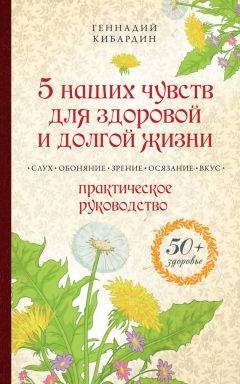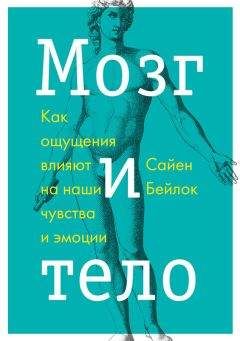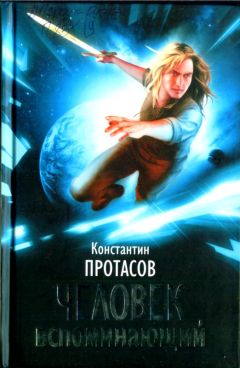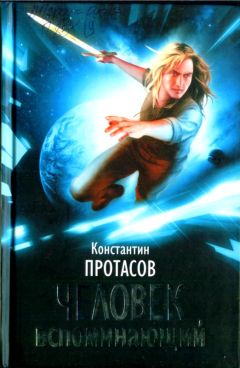Илья Мельников - Второзаконие – последняя книга из Торы
О переодевании в одежду, приличную другому полу (22:5)
Переодевание в одежду противоположного пола запрещалось потому, что этим затемнялось различие между полами, а, значит, нарушалась некая важная часть сотворенного порядка жизни. Возможно также, что такое переодевание ассоциировалось с пороком гомосексуализма или рассматривалось как располагающее к нему. Еврейское слово, которое переводится как «мерзок» (букв, «мерзкое дело»), употребляется для выражения Божьего отношения к этому пороку.
Есть также некоторые свидетельства в пользу того, что переодевание в одежду иного пола могло быть связано с поклонением языческим божествам.
О птицах в гнезде (22:6-7)
Многие полагают, что этот закон дан был евреям, чтобы научить их состраданию и уважению к «родительству» на наглядном примере из жизни животных. Однако разрешение брать птенцов из гнезда противоречит такому пониманию. Более вероятно, что Моисей учил евреев на конкретном примере заботливо и предусмотрительно относиться к источнику пищи. Позволяя матери улететь, они оставляли ей возможность произвести новое потомство в будущем.
Подчинение этой заповеди, как и подчинение всем другим, влекло за собой благословение свыше.
О перилах на кровле (22:8)
В ветхозаветные времена крыша дома на Ближнем Востоке служила для многого. Сооружение перил вокруг кровли помогало бы предотвратить падение с нее человека. И в данном случае предоставлялась возможность проявить «любовь к ближнему, как к самому себе», заранее побеспокоившись о безопасности. В этом постановлении снова подчеркивается ценность человеческой жизни.
О кисточках на верхней одежде (22:12). Здесь значение этого наставления о кисточках не объясняется, но о нем сказано в Числах (15:37-41). Кисточки должны были служить еврею напоминанием о Господних заповедях и обязанности Израиля следовать им.
О нарушении супружеских прав (22:13-30)
Этот закон побуждал родителей внушать своим дочерям мысль о необходимости хранить целомудрие до брака. Он же стоял на защите чести девицы. Если, например, муж пытался по тем или иным причинам (может быть, с целью возвратить себе выкуп, уплаченный за невесту ее отцу) скомпрометировать жену, обвинив ее в том, что не сохранила девственности до брака, то закон давал ее родителям право предоставить доказательство ее девственности. Таковым являлась одежда или постельное покрывало, оставшееся от брачной ночи, со следами крови на них. Согласно сохранившимся источникам, в древние времена на Ближнем Востоке это средство доказательства невинности новобрачной было принято у различных народов. Если родители невесты располагали им, то мужчина, возведший на девицу ложное обвинение, подлежал наказанию и должен был заплатить штраф ее отцу в размере ста сиклей серебра. По-видимому, это было в два раза больше, чем первоначальный выкуп за невесту. Штраф выплачивался отцу невесты, потому что и он был опорочен, ведь он как бы обвинялся в том, что не хотел или не смог привить дочери угодного Богу целомудрия.
Право жены (и, возможно, законное право ее будущего первенца) ограждались тем, что муж лишался права развестись с нею. С другой стороны, если обвинение мужа не могло быть опровергнуто, то жену полагалось побить камнями у дверей дома отца ее. Это суровое наказание следовало не только за грех блуда, но и за попытку обмануть будущего мужа и за обман ее отца. Зло такого рода тоже должно было быть истреблено из среды Израиля.
Хотя в случаях супружеской неверности применялось наказание смертью, каким способом осуществлялся приговор, не уточняется.
В дни Иисуса официальные вожди иудаизма говорили, что за грех прелюбодеяния положено побивать камнями, однако, согласно более поздней традиции в этих случаях предписывалось удушение. Часто ли применялся на деле этот закон, неизвестно.
В стихах 22:23-27 говорится, что с обрученной девицей следовало обращаться так же, как с замужней женщиной.
Рассматривается два случая незаконного совокупления. Первый, «имевший место в городе», определяется как прелюбодеяние (поскольку совершался с согласия девицы); второй, происшедший в поле, – как насилие. Слова обрученной девицы принимались в этом случае на веру, лишь мужчина подлежал смерти.
Изнасиловав необрученную девицу, мужчина обязан был жениться на ней, уплатив ее отцу выкуп за невесту в размере пятьдесят сиклей серебра, и в дальнейшем право на развод ему не предоставлялось. Этим до известной степени защищалась честь девушки, и обеспечивалось ее будущее. Условия этого закона могли также служить сдерживающим началом, побуждая мужчину задуматься прежде, чем совершить насилие, ведь с этой женщиной ему предстояло бы жить до конца жизни.
О тех, кто не мог быть принят в общество Господне (23:1-8)
Обществом Господним здесь называется общество израильское, как собранное воедино в целях богопочитания. Этот закон и другие аналогичные законы подразумевали тех, кто не мог быть допущен к обрядам поклонения Богу Израиля. То есть они (законы) относились к разряду церемониальных. Как и в случае ритуальной нечистоты, человек подлежал исключению «из общества Господня» не по причине какого-то конкретного согрешения. Упомянутые законы скорее выполняли воспитательную или символическую функцию. Более того, исключение из «обряда поклонения» не лишало человека права веровать в Господа.
История Израиля свидетельствует, что эти постановления никогда не применялись сугубо с точки зрения Закона, т.е. без рассмотрения конкретных обстоятельств каждого человека, который пожелал бы поклоняться Богу Израиля. Исключение составляли скопцы, и это могло быть связано с тем, что человек намеренно кастрировал себя, возможно, подчиняясь каким-то требованиям языческого религиозного культа. Есть, однако, основания полагать, что на практике эти установления не применялись против евнухов, пожелавших следовать за Господом. И все-таки некоторые богословы считают, что упомянутый закон распространялся на всех евнухов, независимо от причин их кастрации. Если они правы, то закон, вероятно, исходил из факта противоестественного состояния евнуха, которому никогда уже не придется иметь детей. Другими словами, неполноценность такого человека могла рассматриваться как известное нарушение в нем образа Божия. Значит, закон подразумевал, что поклоняющиеся Богу должны быть совершенны в Его глазах, как совершенны должны были быть предлагавшиеся Ему жертвы, которые, как известно, не могли иметь какого-либо физического недостатка.
Сын блудницы (рожденный от незаконного брака) (23:2)
В еврейском оригинале употреблено редко встречающееся слово, значение которого неясно. Это слово – матзер, здесь оно употреблено в переносном смысле, для обозначения чужестранцев. По традиции оно применяется к незаконнорожденному ребенку. Возможно, однако, что и к ребенку, появившемуся на свет в результате кровосмесительной связи или от культовой проститутки, либо к ребенку от смешанного брака (т. е. от брака израильтянина с аммонитянкой, моавитянкой, филистимлянкой и т. п.). Строгое наказание, применявшееся к вступавшим в подобные браки, должно было удерживать евреев от них. «Сын блудницы не может войти в общество Господне».
Аммонитянам и моавитянам не разрешалось посещать религиозные собрания Израиля по причине их обращения с евреями в период пребывания тех в пустыне. Они тогда отказали им в хлебе и воде, а моавитяне призвали Валаама, чтобы он проклял Израиля. Израилю не подобало вступать с ними в добрососедские отношения. Кроме того, как моавитяне, так и аммонитяне происходили от кровосмесительной связи Лота с его дочерями (Быт. 19:30-38). Перечисленные факты подтверждают, что от начала эти народы противостояли Господу и Его народу. Однако история Руфи свидетельствует, что этот закон не распространялся на тех, кто, подобно ей, от сердца сказал бы: «народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом» (Руф. 1:16).
Отношение к идумеям было более снисходительным, потому что они происходили от Исава, брата Иакова. Египтянам жестокое обращение с Израилем было прощено по причине длительного пребывания евреев в их стране и, возможно, потому, что поначалу они благожелательно приняли Иосифа, а впоследствии и его семью.
О нечистоте в стане (23:9-14)
Здесь речь о необходимости для «общества Господнего» соблюдать церемониальную чистоту. Стихи касаются поддержания буквальной чистоты в военном стане, каковая, однако, обретала и церемониальное значение. Так, в ночном излиянии семени у воина, хотя и не было ничего постыдного с моральной точки зрения, тем не менее, человек делался из-за этого церемониально нечистым на весь предстоявший день. Так же и распоряжение о зарывании экскрементов не относилось к области морали. Однако неуклонное соблюдение этих постановлений напоминало израильским воинам как о святости Господа и о Его вездесущности, так и о вытекавшей отсюда ответственности человека за его поведение.