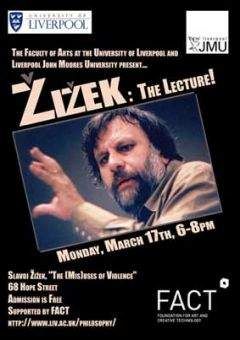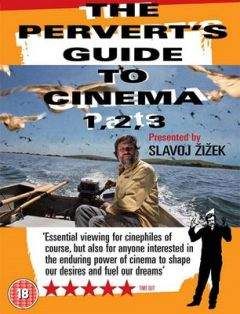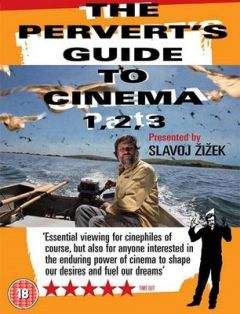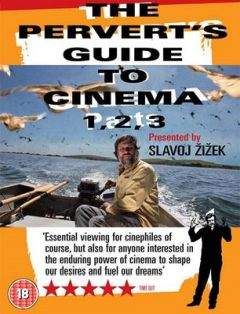Славой Жижек - Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие
Этот тупик в самом его радикальном измерении суть тупик, воздействующий на процесс сублимации, и не в том общепринятом смысле, что художественный рынок сегодня больше не способен производить «возвышенные» объекты, но в смысле куда более радикальном: сама фундаментальная матрица возвышенности, центральной Пустоты, пустого («священного») места Вещи, исключенной из цепи современной экономики и заполняющей это место позитивным объектом, то есть объектом, возносимым до уровня Вещи (таково определение сублимации, данное Лаканом), все больше и больше оказывается под угрозой, угрозой расстоянию между пустым Местом и заполняющим его (позитивным) элементом. Таким образом, если проблема традиционного (домодернистского) искусства заключалась в том, как заполнить возвышенную Пустоту Вещи (чистого Места) адекватным прекрасным объектом, т. е. как суметь поднять обыкновенный объект до высокого уровня Вещи, то проблема современного искусства в известном смысле противоположна (и куда более чудовищна): теперь уже нельзя рассчитывать на то, что Пустота (священного) места предложит себя человеческим артефактам, и задача заключается в сохранении места как такового, сохранении, позволяющем убедиться в том, что место «имеет место»; иначе говоря, проблема теперь не в ужасающей Пустоте, не в заполнении Пустоты, а в первую очередь — в создании Пустоты. Принципиально важной становится взаимозависимость пустого незанятого места и быстро движущегося ускользающего объекта, этого не имеющего собственного места оккупанта [13]. Дело не в том, что имеется добавление какого–то элемента к месту, доступному в структуре, или добавление места, не заполненного никаким элементом, пустого места в структуре, которое будет поддерживать фантазию о чем–то таком, что появится и заполнит собою это место; а избыточный элемент, которому нет места, будет поддерживать фантазию о пока еще неизвестном месте, которое его ждет. Дело скорее в том. что пустое место в структуре само по себе соотносимо с блуждающим элементом, которому не достает своего места. Элемент и место — не две разные сущности, но две стороны одного и того же, т. е. две стороны ленты Мебиуса. Иначе говоря, парадокс состоит в том, что только элемент, который оказался совершенно «вне места» (объект типа экскрементов, мусора или отбросов), может сохранять пу- стоту пустого места, т. е. поддерживать ситуацию Малларме rien n'aura eu beu que le lieu («ничто, кроме места, не будет иметь места»): в тот момент когда этот лишний элемент наконец «находит свое собственное место» никакого чистого места, отличного от занявшего его элемента [14], уже нет. Еще один способ, позволяющий приблизиться к трениям объекта и пустоты, — различные модальности суицида. Во–первых, самоубийство как действие, конечно же, «содержит некое послание» (разочарование в политике, эротике и т. д.) и, значит, как таковое оно обращено к Другому (скажем, самоубийство по политическим мотивам вроде столичного самосожжения призвано шокировать и пробудить безразличную публику). Хотя это самоубийство имеет символическое измерение, все же в самых своих основаниях оно — воображаемо, поскольку совершающий его человек утверждается в нем благодаря тому воображаемому эффекту, который его акт произведет на потомков, очевидцев, публику, на всех, кто о нем узнает. Нарциссическое удовлетворение, которое приносит эта фантазия, совершенно очевидно. Существует и самоубийство в реальном: насильственный переход к акту полного и непосредственного отождествления субъекта с объектом. Для Лакана субъект ($ — «перечеркнутый» знак, пустой субъект) и объект–причина его желания (остаток, придающий тело нехватке, которая и «является» субъектом) строго соотнесены: субъект есть лишь тогда, когда имеется некое материальное пятно, некий материальный остаток, сопротивляющийся субъективации, некий избыток, в котором субъект не может себя узнать. Иными словами, парадокс субъекта заключается в том, что он существует только благодаря своей собственной радикальной невозможности, благодаря «бельму на глазу», всегда спасающему субъекта от достижения полной онтологической идентичности. Итак, перед нами структура ленты Мебиуса: субъект соотносится с объектом, но лишь негативным образом. Субъект и объект никогда не могут «встретиться», хотя находятся в одном и том же месте; они — на противоположных сторонах ленты Мебиуса. На языке философии, в гегелевском смысле спекулятивного совпадения/тождества полярностей субъект и объект оказываются тождественными: когда Гегель превозносит спекулятивную истину вульгарного материалистического тезиса френологии «дух есть кость», то его точка зрения заключается не в том, что дух можно с успехом свести к форме черепа, но что дух (субъект) есть лишь тогда, когда есть кость (некий материальный, неодухотворенный остаток), сопротивляющаяся егo духовному снятию–присвоению–посредничеству. Субъект и объект, таким образом, не просто внешни друг другу: объект — это не просто внешний предел, в отношении которого субъект определяет свою самотождественность, он экс–тимен (ex–timate) в отношении субъекта, он служит его внутренней границей, т. е. самим барьером, предотвращающим полную реализацию субъекта.
Однако при суицидальном подходе к делу происходит как раз–таки прямая идентификация субъекта с объектом: объект теперь не «идентичен» субъекту в смысле субъективного гегелевского тождества диалектического процесса и поддерживающего этот процесс препятствия, но они совпадают непосредственно, оказываются по одну сторону ленты Мебиуса. Это означает, что субъект теперь не являет собой чистую Пустоту негативности ($), бесконечное желание, Пустоту в поисках отсутствующего объекта. Он прямо «проваливается» в объект, становится объектом. Объект (причина желания), напротив, больше не является материализацией Пустоты, призрачным присутствием, которое придает тело нехватке, поддерживающей желание субъекта. Объект приобретает теперь прямое позитивное существование и онтологическое постоянство. Или, с точки зрения минимального расстояния между объектом и его местом, пустотой, расчищенным, расстояния, в чьих пределах он появляется, при суицидальном подходе не объект выпадает из своей рамки и мы остаемся перед чистой Рамой—Пустотой (так что «лишь место имеет место»), а как раз–таки наоборот: объект по–прежнему остается, а вот пустота–место исчезает; рамка проваливается в то, что она когда–то обрамляла, и теперь имеет место затмение символического пространства, абсолютное замыкание реального. Суицидальный переход к действию не только не является наивысшим выражением влечения к смерти, но представляет собой его полную противоположность. Влечение к смерти и творческая сублимация для Лакана строго между собой взаимосвязаны. Влечение к смерти опустошает (святое) место, создает расчищенное, пустоту, раму, которую затем заполняет объект, «возносимый до уровня Вещи». И здесь мы сталкиваемся с третьим видом самоубийства, самоубийства, определяющего влечение к смерти, символического самоубийства, не в том смысле, что человек «умирает символически, а не на самом деле», но в более точном смысле стирания той символической сети, которая определяет идентичность субъекта. В этом случае рвутся все те узы, которые удерживали субъект в его символической субстанции. Субъект оказывается целиком и полностью лишенным своей символической идентичности, заброшенным в «ночь мира», в которой единственный коррелят — минимум отходов–экскрементов, мусор, соринка в глазу, практически–ничто, удерживающее чистое место–раму–пустоту, так что здесь, наконец, «лишь место имеет место». Логика предъявления экскремент–объекта возвышенному Месту сходна, таким образом, с тем, как действует гегелевское бесконечное суждение «дух есть кость». Наша первая реакция на фразу Гегеля — «но ведь это же бессмысленно, поскольку дух, его абсолютная, на себя направленная негативность совершенно противоположны инерции черепа, этого мертвого объекта!» Однако именно осознание совершенного несовпадения «духа» и «кости» является «духом», его радикальной негативностью… Точно также первая реакция на фекалии в возвышенном Месте — возмущенный вопрос: «Это что, искусство?» Однако именно эта негативная реакция, это переживание радиального несовпадения объекта и занимаемого им Места позволяет вам осознать особенность этого Места.
В своей замечательной работе «Объект века» [15] Жерар Вайсман делает следующее предположение: разве модернистское искусство не было сосредоточено на том, как сохранить минимальную структуру возвышенности, минимальный зазор между Местом и заполняющим его элементом? Разве не по этой причине «Черный квадрат» Казимира Малевича передавал диспозитив художника в его предельно элементарном, сведенном к голому различию между Пустотой (белый фон, белая поверхность) и элементом («тяжелым» пятном квадрата) виде? Иначе говоря, мы никогда не должны забывать, что само время (будущее предшествующее) знаменитой фразы Малларме — «ничто не будет иметь места, кроме места» — указывает на то, что мы имеем дело с утопичным состоянием, которое по априорно структурным причинам никак не понять во времени настоящем (никогда не будет настоящего времени, в котором «только само место будет иметь место»). Дело не только в том, что занимаемое Место дарует объекту высокое звание, но и в том, что только присутствие объекта сохраняет Пустоту священного Места, так что само это Место никогда не занимает места, но в ответ нечто иное всегда «будет иметь место» после того, как оно потревожено позитивным элементом. Иными словами, когда мы извлекаем из Пустоты позитивный элемент, «немножко реальности», избыточное пятно, нарушающее ее равновесие, никакой чистой, ничем не запятнанной Пустоты «как таковой» мы не получаем. В этом случае сама Пустота исчезает ее там больше нет. Так что причина, по которой экскременты возносятся до уровня произведения искусства, обычно заполняющего Пустоту Вещи, заключается не просто в демонстрации того, как «что–то происходит», как объект, в конечном счете, сам по себе не имеет значения, поскольку любой объект может быть возвышен, может занять Место Вещи; это обращение к экскрементам скорее свидетельствует об отчаянном стремлении обеспечить наличие святого Места. Проблема заключается в том, что сегодня, в двойном движении прогрессирующей коммодификации эстетики и эстетизации мира товаров, «прекрасный» (доставляющий эстетическое удовольствие) объект все в меньшей и меньшей степени способен сохранять Пустоту Вещи. Парадоксальным образом получается так, что единственный способ, позволяющий сохранить (святое) Место, — заполнить его мусором, экскрементами, отбросами. Иначе говоря, именно художники, которые сегодня выставляют художественные объекты типа экскрементов, не столько подрывают логику возвышенного, сколько отчаянно стремятся спасти её. А вот результаты этого коллапса элемента в Пустоту самого Места потенциально катастрофичны: не существует символическо- го порядка без хотя бы минимального расстояния между элементом и его Местом. Иначе говоря, мы живем в символическом порядке только постольку. поскольку каждое присутствие появляется на фоне его возможного отсутствия (Лакан пытался показать это понятием фаллического означающего как означающего кастрации: означающее — «чистое» означающее, означающее «как таковое», в его наипростейшем виде, поскольку самое его присутствие занимает его собственное возможное отсутствие, его возможную нехватку). Возможно, элементарное значение модернистского перелома в искусстве, таким образом, заключается в том, что благодаря ему принимаются в расчет трения между (художественным) объектом и занимаемым им местом: объект становится произведением искусства не просто благодаря его непосредственным материальным качествам, но благодаря занимаемому им месту, (святому) Месту Пустоты Вещи. Иными словами, вместе с модернистским искусством утрачивается и определенная невинность: больше мы не можем прикидываться, что прямо производим объект, который, благодаря его качествам, т. е. независимо от занимаемого места, «является» произведением искусства. Именно по этой причине у модернистского искусства с самого начала выявились два полюса — Казимир Малевич и Марсель Дюшан. С одной стороны, чисто формальная разметка пространства, отделяющая объект от его Места («Черный квадрат»); с другой — демонстрация в качестве произведения искусства общеупотребимого объекта повседневности (велосипеда), который как бы убеждает, что искусство зависит не от качеств произведения искусства, а исключительно от Места, которое этот объект занимает, так что все, что угодно, даже дерьмо, может «быть» произведением искусства, если находится в правильном Месте. И что бы мы ни делали после этого модернистского излома, даже если мы возвращаемся к ложному неоклассицизму а-ля Арно Бреккер, все уже этим изломом «опосредовано». Возьмем, например, такого «реалиста» XX века, как Эдвард Хоппер. Мы обнаруживаем в его творчестве по крайней мере три черты, свидетельствующие об этой опосредованности. Во–первых, это хорошо известная манера Хоппера изображать одинокого жителя ночного города в залитой светом комнате, причем видим мы его через окно снаружи, даже если само это обрамляющее окно не нарисовано. Картина написана так, что мы вынуждены представлять себе невидимую, нематериальную раму, отделяющую нас от изображенных объектов. Во- вторых, своей гиперреалистической манерой его полотна производят эффект дереализации: перед нами как бы не обычные материальные вещи (типа жухлой травы в сельских пейзажах), а сновидческие, призрачные, эфемерные объекты. В-третьих, тот факт, что серия его работ с изображением смотрящей в открытое окно жены художника, которая находится в пустой, залитой ярким солнечным светом комнате, переживается как неустойчивый фрагмент некой общей сцены, требующей дополнения, отсылающей к невидимому внешнему пространству, подобно кадру из фильма без контркадра (нельзя не согласиться, что эти живописные произведения Хоппера уже «опосредованы» кинематографическим опытом). Есть одна картина, которая, как принято считать, занимает место «недостающего звена» между традиционным и современным искусством. Речь идет о знаменитом «Начале мира» Гюстава Курбе, полотне на котором бесстыдно изображен обнаженный женский торс с фокусом на гениталиях. Эта картина, буквально исчезнувшая из поля зрения почти на сто лет, была в конце концов обнаружена после смерти Лакана среди его вещей [16]. «Начало» представляет собой предел традиционной реалистической живописи, ведь ее крайним объектом — никогда прямо и полностью не показываемым, но провоцирующим постоянные намеки, объектом, изображаемым как своего рода подразумеваемая точка референций, начиная, по крайней мере, с «Изгнания» Альбрехта Дюрера, — было, конечно, обнаженное, откровенно возбужденное женское тело как предельный объект мужского желания и взгляда. Выставленное напоказ женское тело функционирует здесь подобно постоянным намекам на половой акт в классических голливудских фильмах, лучшее описание которых дается в знаменитой инструкции киноворотилы Монро Стара сценаристам в «Последнем магнате» Скотта Фицджеральда: