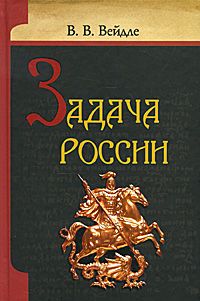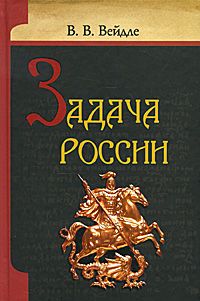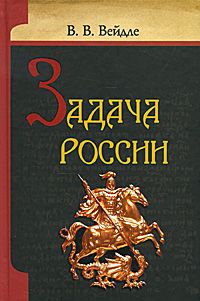В. Вейдле - Эмбриология поэзии
Начнем с нее. Язык без сомнения medium любой литературы (и еще многого другого), но должный интерес к нему как раз, казалось бы, и не может начаться ни с чего другого, как с усмотрения той истины, что он ее medium совсем в другом смысле этого слова, когда мы вслушиваемся в «Оды» Китса, чем когда мы читаем Фильдинга или Гиббона. В последних двух случаях язык, конечно, налицо, он необходим, но и самое пристальное внимание к нему никаких качеств Фильдинга как романиста и Гиббона как историка нам не обнаружит, тогда как в первом случае не на что, кроме языка, и внимания обращать, он — всё. Но всё он только потому, что мы смысла не отделяем от выражающей (или пусть даже обозначающей) поверхности слов, т. е. действуем наперекор основному принципу лингвистики. Так что, обращаясь теперь к Томашевскому, мы вправе сказать, что часть литературы вовсе не «входит» — или входит совсем иначе, чем другая часть, — «в состав языковой деятельности человека», вне которой (если уж на то пошло) нельзя себе представить возникновения даже и расписаний поездов или телефонных книг. Ничего ровно из «вхождений» этих не следует; а если теория литературы и примыкает к науке, изучающей язык, то методами этой науки она все‑таки без коренного их пересмотра пользоваться не может.
Знакомство с языкознанием, и как раз с современным, послесоссюров- ским, для теоретиков литературы — и даже искусства вообще — не только желательно, но и необходимо, прежде всего (как я попытался это показать в моей статье «Art et Langage» Diogene, 66, апрель–июнь 1969, весьма плохо переведенной в английском издании того же журнала) для осознания того понятия «язык» (не langue, a langage), без которого им не обойтись, но с которым лингвистике (как это впервые с полной ясностью понял именно Соссюр) решительно делать нечего. Полагаю, что лингвистам, переходящим к изучению литературы, нельзя не учитывать этого различия. Вообще же снимаю шляпу. Я — ученик и друг языкознания, а не его хулитель. Только все‑таки: там, где вымысел, главное не в языке; а там, где главное в языке, это не тот язык, который изучают лингвисты. Не то чтобы немножко не тот, а совсем тот же, и все‑таки другой: не допускающий полного отклеивания от выражаемых им смыслов.
В. Вейдле 1970
Еще раз о словесности, слове и словах[311]
Статья эта примыкает к той, что трактовала о «Двух искусствах» в сотом номере «Нового журнала». Начну ее с цитаты, приведенной уже и там, в начале последнего раздела. Но далее речь поведу не о вымысле, — остерегаясь, однако, из виду упускать это второе литературное искусство, не словесное, хоть и осуществляемое словами. Поведу речь об искусстве слова, о невозможности видеть в нем одно лишь умение выбирать и сочетать слова или вообще сводить его к производству эффектов, достигаемых соответственными приемами, о невозможности исходить в изучении его, из лингвистик конструированного особого понятия языка, лежащего в основе всего современного языкознания, но к искусствознанию и как раз к такому, которое все искусства хотели бы считать языками, неприменимого. Иначе выражаясь, занят я буду в этой статье главным образом критикой того, что зовут формализмом и структурализмом. Противны мне эти ярлыки. И спорить я буду не с ярлыками.
1. Слово — «как таковое»
«Литература, или словесность, как показывает это последнее название, входит в состав словесной или языковой деятельности человека; отсюда следует, что в ряду научных дисциплин теория литературы близко примыкает к науке, изучающей язык, т. е. к лингвистике». С этих слов — или почти что с них— начинается «Теория литературы» покойного Б. В. Томашевского [312]. Вышла эта немножко технократическая (автор готовился стать инженером, учился в Льеже), но тщательно продуманная и построенная книга в 1925 году; после 31–го года исчезла в России из обращения; недавно ее фотографически переиздали за рубежом.
Томашевский, как известно, был в молодости одним из наших виднейших «формалистов», т. е. возглавил вместе со Шкловским, Тыняновым и Эйхенбаумом новое тогда направление в литературоведении, названное (не самими его зачинателями) формализмом и подвергшееся запрету, который не снят с него в нашей стране и по сей день. Среди других грехов вменялось ему в вину и это— отнюдь не в одинаковой мере свойственное его сторонникам — стремление приблизить литературоведение к языкознанию, применить или приспособить методы изучения языка к изучению литературного и поэтического языка, а также и вообще поэзии и литературы. Намеренье, казалось бы, невинное; во всяком случае политически; но партийная жандармерия рассуждала напролом. Ежели, мол, вы будете изучать форм) литературных произведений, словесную или сюжетную (разницы этой наш брат не понимает и понимать не желает), вы станете пренебрегать идейным их содержанием — слышали? и–дей–ным! — и научите других им пренебрегать; а нам без него никак нельзя, потому что начинять мозги партийно одобренной начинкой только с его помощью и возможно. С жандармерией, рассуждающей так и облеченной полнотою власти, не поспоришь. Пришлось этим осведомленным и одаренным людям взгляды свои красить в защитный цвет, а затем и вовсе от них отречься или заняться другим делом, не тем, которым они с немалым успехом занимались до того времени. Русское литературоведение очень от этого пострадало, но прежние их труды, изъятые в России из оборота, не канули в Лету, и были хоть и с запозданием в тридцать, а то и в сорок лет по заслугам — порой и свыше заслуг — оценены на Западе.
Вернусь, однако, к цитате, с которой начал. Исходное положение свое Томашевский формулирует немножко менее осторожно, чем ближайший из него вывод. Согласиться нетрудно с тем, что «теория литературы близко примыкает к науке, изучающей язык»; труднее безоговорочно признать, что литература «входит в состав словесной или языковой деятельности человека». Так‑таки целиком и входит? Вместе со всем вымыслом, со всеми воображенными положениями и лицами? И входит именно как литература, как словесное искусство? Или наравне с чем угодно, облеченным в слова, будь то учебник физики или объявление в газете?
На следующей странице сказано еще более решительно: «Литература есть самоценная;, фиксированная речь». «Фиксированная» (в отличие от незаписанных наших разговоров), в этом сомнения нет; но вот «самоценная»… Самоценная именно как речь, а не как изреченное этой речью? Как словесная ткань, а не как то, что из нее выткано? Даже и независимо от особой природы вымысла, разве это к любым литературным произведениям одинаково приложимо? Разве «Война и мир» в той же мере или в том же смысле «сделана из слов», как «На холмах Грузии», или «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы»?
Томашевский этого не утверждает. Он тут же, в зачине своих рассуждений, признает, что наряду с вопросами пограничными, касающимися обеих дисциплин, есть и вопросы, от лингвистики ускользающие, относящиеся к одной теории литературы. Но немного дальше, в начале первой главы, он все‑таки снова противополагает интерес к тому, что сказано словами, характерный для практической речи, интересу к самим словам, характерному, как он думает, для художественной литературы в целом. «Сами слова» — это столь же двусмысленно, как и «самоценная речь»; а говорить, что в «Войне и мире» нас интересуют (или Толстого интересовали) исключительно или хотя бы по преимуществу «сами слова», и совсем нелепо. Словами, кроме того, занимается, как и речью (хоть последнее и не столь бесспорно), лингвистика, так что, утверждая их первенство, мы возвращаемся в ее лоно. Тем не менее, утверждения такого рода, не вызывали возражений и у других ученых той же школы, — как из лингвистики исходивших языковедов по образованию, так и к ней совершенно равнодушных, да и очень поверхностно с ней знакомых. «Сами слова» или несколько раньше провозглашенное «слово как таковое» были для них равнозначными (как будто слово равняется словам!) и не–хуже–других формулами того, в чем их обвиняли совсем уж нечувствительные к оттенкам хулители их и мучители; того самого, что было кличкой и стало знаменем; формулами «формализма».
Знамени этого разворачивать они на первых порах не сочли нужным, а позже решились было, но тут‑то и пришлось его свернуть. Если нынче оно свободно и даже надменно (в качестве «последнего слова науки») развевается за пределами России (особенно в Италии и во Франции), то обязаны они этим отчасти польским и чешским последователям своим, но, в первую очередь, многолетней деятельности соотечественника и сверстника, своевременно расставшегося с ними. Один из основоположников этого направления, но, в отличие от четырех мною названных, не петербуржец, а москвич, ныне здравствующий (в Соединенных Штатах) знаменитый славист и языковед Р. О. Якобсон еще в 1920 году уехал в Прагу. В 21–м он издал там брошюру «Новейшая русская поэзия»; немного позже опубликовал замечательное исследование о чешском стихе [313]; а затем принял деятельное участие в организации Пражского лингвистического кружка, сыгравшего видную роль в развитии современного языкознания. В брошюре (где говорится всего больше о Хлебникове) читаем: «Поэзия — это просто язык в его эстетической функции». А также: «Поэзия индифферентна к предмету высказывания… Поэзия есть оформление самоценного, «самовитого», как говорит Хлебников, слова» [314].