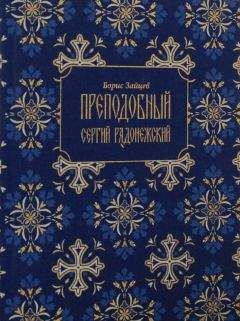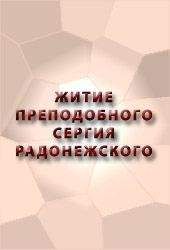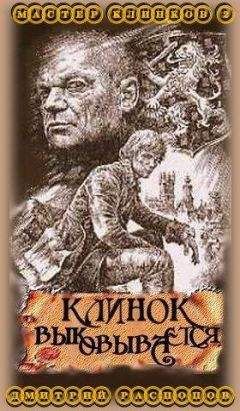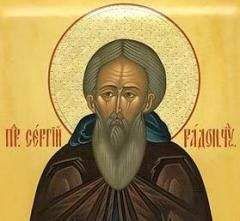Борис Клосс - Житие Сергия Радонежского
Интересующий нас раздел имеет заголовок «Слова избранна спасительна от житья святых отець о чине начальствомь» и содержит обстоятельно подобранные выдержки из творений известнейших церковных писателей и Патериков. Список авторитетов впечатляет: Василий Великий, Ефрем Сирин, Марк Скитский, преп. Нил, преп. Стефан, Григорий Нисский, Макарий Египетский, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов. Выписки касаются правил монашеского поведения, в частности — в общежительных монастырях[54].
В первую очередь обращает на себя внимание чрезвычайно емкая и эмоциональная формулировка монашеского общежития: «Сего бо ради наричються киновия, сиречь опщая житья, да вся имуть опща себе и повеленьемь еже с Богом своих наставник, сиречь игумен, да пребывають единемь разумом и единою мыслью, повинующеся им и послушающе их на благая, и тако достойне пребывающе, обрящють покой и спасенье» (л. 220 об. — «От Законьника»).
Тема послушания и безусловного повиновения игумену развивается еще в следующих наставлениях: «буди послушлив» (л. 211), «повинися игумену во всемь» (л. 211 об. — Исаак Сирин); «Богови и своему отцю игумену душю и тело и всяку печаль взложивый и отинудь ни в чемь не имея своея воля и по своей воли не живый» (л. 216 об. — Симеон Новый Богослов); «послушливу быти и мирну и целомудрьну, и смирениемь всяко слово глаголати и всяко дело творити; и аще сице поживеши и подвигнешися, наследник будеши небеснаго царствия и сын Божий наречешися» (л. 220—220 об. — Василии Великий).
Добродетель «смирения» особенно подчеркивается: «право житье желаеши — смиренье держи», «смиреномудрие люби и сетью дьяволею не ят будеши», «гордыня уподобися высоку дубу, гнилу всюду» (л. 213 — Ефрем Сирин).
Отсюда и соответствующие правила поведения для монахов: «ходящю ти путем своим всегда очима своима долу зри на землю», не празднословь, не смейся — «смех бо не хрестьяньско есть» (л. 220 — Василий Великий), «от многословья себе сблюди — то бо погашаеть от сердца умная двизанья», не взирай «очима зде и тамо», войдя в чужую келью «схраняй твои очи еже не видети от сущих тамо», даже кашляй — «с целомудрием», одеждами удовлетворяйся «убогими», не объедайся — «лучши ти вложити в чрево свое угли горяща, нежели насыщатися мирьскых тряпез», при разговоре с женами на них не смотри — «да не оскверниться сердце калом страсти», «бегай виньных питий — и спасешися» (л. 211—212 — Исаак Сирин).
«Свершеное деланье черньцю — еже внимати к Богу всегда без молвы» (л. 212), «к Нему же непрестанно молися о своих гресех и о искрених твоих братьи, и о ненавидящих тя и любящих» (л. 220 — Василий Великий), «молитву имей непрестанно день и нощь и на всяк час» (л. 220), даже «седяй на трапезе и в уме не моляся, но беседуя, глаголя каково любо слово, — сицевый телесен есть, а не духовен» (л. 214 об. — Исаак Сирин).
Для монахов общежительных монастырей составлена специальная сводка правил Василия Великого: «Аще ли в опщем житьи живеши, делай беспрестани со многим послушаньемь, да небесный житель будеши. И ничто же имей в кельи, не сбирай тайных имений… , но делай рукоделье манастырю на потребу, в нем же всегда хлеба насыщаешися, и делай рукоделье не сребролюбно, елико точью тело свое питаеши, а инем не стяжай» (л. 220). И, наконец, заключительное наставление: «Подобаеть же ти быти кротку, молчаливу, не памятозлобливу, терпеливу о всемь, не гневливу, благосветну, смерену, смереномудру, боголюбиву, нищю, убогу, нищелюбиву, страннолюбиву, не о своей ползе телесней или душевней искати, но паче ближних своих и искреняго своего всегда упокоивати; не всегда от места на место преходити, ни часто ис келья в другую келью исходити, но поискав и обрет добру дружину боящихся Бога и служащих Ему день и нощь, и тако совокупися с ними и терпи до дне исхода твоего, служащи с ними Господу Богу своему» (л. 220).
Замечательной особенностью Афанасьевской подборки правил монашеского общежития является включение в нее выдержек из произведений ранневизантийских писателей мистического направления, интерес к которым возрос в обстановке исихастских споров XIV в. Среди выписок из сочинений Исаака Сирина обращает на себя внимание раздел «Въпроси и отъвети преподобных отець о молитве и о трезвении ума, како подобает безмолъвнику седети в кельи» (л. 212). Целиком переписано слово Симеона Нового Богослова «О молитве», повествующее об «умном безмолвии», «собирании ума в любовь божественую», сопровождающемся «испусканием слез от очью» (л. 214 об. — 218 об.). Здесь мы имеем, пожалуй, одно из первых в русской письменности описание техники «умной молитвы», принадлежащее Симеону Новому Богослову: «Отъими ум свой от всякого суетьства, сиречь временна, таже прилепи к персем свою браду, сметая чювьственое око с умомь посреде чрева, сиречь в пуп; въстягни же и ноздрьнаго духа дыханье, еже не часто дыхати, и испытай умно внутрь в утробе обрести место сердечное, иде же любо (?) вместишася душевныя силы», — и только после пребывания в таком состоянии «нощь и день» можно обрести «непрестанное веселие» и увидеть «посреде сердца воздух и себе светла всего и рассуженья исполнена» (л.217 об.) [55].
Глава 3. Русская Фиваида
Несмотря на действенную поддержку константинопольского патриарха и русского митрополита, подкрепленную убедительными свидетельствами церковных авторитетов, монастырская общежитийная реформа продвигалась, тем не менее, не без трудностей. Сторонники особного жития решительно отстаивали свои привилегии и не собирались менять установившегося порядка. К примеру, послание архиепископа Дионисия цели своей не достигло и снетогорских монахов нисколько не убедило. Московский Богоявленский монастырь как был особножительным в XIV веке, так и оставался им даже в XVI в.: из духовной князя Ивана Васильевича Ромодановского 1522 г. выясняется, что князь–мирянин жил в Богоявленском монастыре со «своими старцами» в собственных кельях, а по существу — в своеобразной миниусадьбе, которую составляли: две горницы (одна из них была столовой), двое сеней, погреб, ледник, поварня, повалуша, житница, клети с разнообразным имуществом[56].
В самом Троице–Сергиевом монастыре сопротивление общежитийной реформе достигло такого накала, что у части братии возникла мысль «яко не хотети Сергиева старейшинства». В этот момент предъявил свои права старший брат преподобного Стефан, воспитанник московского Богоявленского монастыря и, надо полагать, убежденный сторонник особножития: «И кто есть игумен на месте сем? Не аз ли прежде седох на месте сем?» Сергий спорить не стал и, не говоря никому ни слова, тайно покинул обитель и направился в переяславскую волость Кинелу. Придя в Махрищский монастырь, он попросил у игумена Стефана монаха–проводника, с которым, обойдя «многия места», нашел «место красно зело» на берегу реки Киржач. Здесь, как было сказано выше, Сергии основал монастырь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (между 1365 и 1373 гг.). Стараниями митрополита Алексия конфликт в Троицкой братии был ликвидирован, и Сергий вернулся на Маковец. В Благовещенском же монастыре он оставил строителем своего ученика Романа.
После 1365 г. монастырская реформа стала распространяться более быстрыми темпами. При этом ставка была сделана не на старые монастыри, с трудом поддававшиеся перестройке, а на вновь создаваемые, следуя евангельскому изречению: «яко вино ново в новы мехы влияти, и обое сблюдется; аще ли вино ново в мехи ветхи, и меси просядутся, и вино прольется, и обое погибнеть» (Мф. 9, 17) [57]. И здесь следует подчеркнуть особенную роль Сергия Радонежского. Сам Сергий основал несколько монастырей, его ученики и «собеседники», ученики учеников создали или восстановили, по подсчетам Макария (Булгакова), около половины всех появившихся в XIV—XV вв. монастырей[58]. На Севере образовалась целая монашеская область, которую А. Н. Муравьев назвал «Русской Фиваидой» — по аналогии с Фиваидой Египетской, колыбелью раннехристианского монашества. «Преподобный Сергий стоит во главе всех, — писал А. Н. Муравьев, — на южном краю сей чудной области и посылает внутрь ее своих учеников и собеседников, а преподобный Кирилл, на другом ее краю, приемлет новых пришельцев и расселяет обители окрест себя, закидывая свои пустынные мрежи даже до Белого моря и на острова Соловецкие [59].
Но это будет позже. А пока новые обители опоясывают столицу и укрепляют рубежи Московского княжества.
Митрополит Алексий задумывает построить обетный монастырь в честь Нерукотворного образа Спаса — он испрашивает у Сергия его любимого ученика Андроника и основывает монастырь на берегу Яузы (знаменитый впоследствии Андроников монастырь). Выше мы вывели наиболее вероятную дату его основания — 1366 г.
В 1374 г. Сергий Радонежский по просьбе князя Владимира Андреевича основывает в Серпухове «близ града на Высоком» Зачатьевский монастырь. Преподобный благословляет на игуменство своего ученика Афанасия, «в добродетелех съвершена зело, стройна и учителна и божественых писаниих разумна, еже ныне свидетельствують писания его»[60]. Об одном «писании» Афанасия (ГИМ, Син. № 193) мы уже упоминали, но возможны находки и других его автографов. В 1382 г. Афанасий оставил игуменство, ушел в Константинополь и купил себе келью в Студийском монастыре, где «пребываше яко един от убогих». «И поживе в молчании съ святыми старци», — но отнюдь не в бездействии: в 1392 г. по его благословению инок Сергий переписал сборник поучений и житий и послал братии в Высоцкий монастырь [61], в 1401 г. сам Афанасий в монастыре Богородицы Перивлепты переписал Киприановскую версию Иерусалимского устава под названием «Око церковное» и отослал рукопись на Русь. Списки устава сразу же распространились в монастырях «братства святого Сергия»: в Серпуховском Высоцком, Спасо–Андрониковском, Троице–Сергиевском, Савво–Сторожевском, Кирилло–Белозерском, в общежитийных монастырях Переяславля–Залесского.