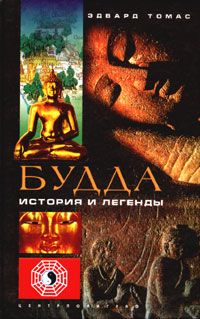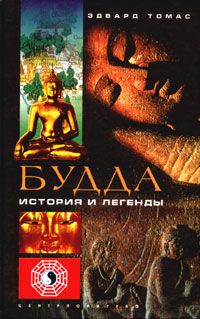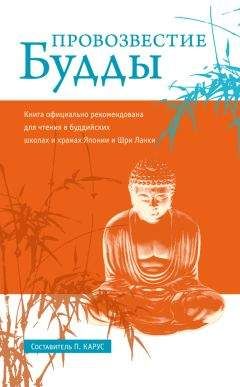Коллектив авторов - Богословие красоты
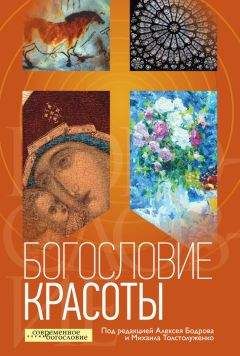
Обзор книги Коллектив авторов - Богословие красоты
Богословие красоты
Под редакцией Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко
Предисловие
Понятие красоты не сводится к суммированию всех известных определений красоты, хотя так или иначе содержит их в себе. Красота все время ускользает от прямого ее захватывания, но в имплицитном виде присутствует и является критерием истинности свершаемого. Не случайно, что понятие красоты используется как один из критериев истинности в науке: красивая теория, красивая формула, красивое решение задачи.
В библейской картине творения понятие красоты фигурирует как сущностная характеристика самого творения. Акты творения Богом мира завершаются оценкой, подразумевающей идею прекрасного: «И увидел Бог, что это хорошо» и даже «хорошо весьма».
Богословие красоты – это вопрос о красоте и ее присутствии в мире, о способах ее обнаружения и смысле. Христианская мысль воспринимает красоту не просто эстетически, но личностно: творение прекрасно, потому что прекрасен сам Творец. Человек есть образ Творца, поэтому вопрос о красоте – это также антропологический вопрос.
Богословие красоты так или иначе соотносится с несколькими основными типами ее присутствия в бытии: (а) пространство телесности (пространственно-временной аспект мира), (б) пространство культуры (человек и его творческая деятельность), (в) пространство трансцендентного (красота как откровение, знак присутствия Божественного). Последний тип предполагает выход за пределы эстетики в область мистического переживания красоты. Это непосредственно и есть область богословского осмысления красоты.
В основу настоящего сборника легли избранные доклады, представленные на международной конференции «Богословие красоты», проведенной 19–22 октября 2011 г. Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея и монастырем Бозе (Италия). Помимо этого, в книгу включены статьи известных современных богословов, таких как Ганс Урс фон Бальтазар, Карл Барт и Каллист Уэр.
Александр Закуренко
Ганс Урс фон Бальтазар
Богословие и эстетика[1]
Только христиане – это «третий пол», этот по-другому невозможный синтез всякой «религиозной литературы».
Присуждение мне степени почетного доктора гуманитарных наук Католическим университетом Америки – большая честь для меня. Прошу вас принять мою сердечную благодарность за это. Тем не менее, я не удивлюсь, если вы окажетесь незнакомы с моими, увы, обширными по количеству, трудами. Их английские и американские переводы представляют более-менее случайную подборку. А из моей основной работы, в которой я предпринимаю попытку некоего синтеза, еще не переведено ничего.
Поэтому, выбирая тему моего доклада, я взял на себя смелость познакомить вас с причинами, по которым я оставил гуманитарные науки и переключился на богословие. Я не собираюсь предлагать вам автобиографический этюд, но попытаюсь очертить важную проблему, которая представляет собой, по моему мнению, центральный вопрос, если и не для филологии, то уж точно для богословия.
В течение десяти семестров я изучал немецкую филологию и литературу, после чего получил докторскую степень. Я никогда не становился доктором богословия. Пока я работал над диссертацией, основным вопросом, занимавшим меня, был следующий: «Есть множество хороших произведений литературы, музыки, изобразительного искусства и иной духовной деятельности. Каким образом можем мы распознать шедевр, который, хотя и принадлежит к определенной категории, превосходит ее и становится уникальным? Тысячи стихотворений написаны о ночи. Почему Nachtlied[2] Гете превосходит их все? Существуют сотни венских «мюзиклов»; почему «Волшебная флейта» Моцарта настолько выше их? Множество ранних работ Моцарта были сознательно написаны однотипно, в стиле современной им итальянской музыки или музыки сыновей Баха. Как можем мы объяснить тогда качественный скачок в «Идоменее» или «Женитьбе Фигаро»? Откуда разница между «Гамлетом» Кида и Шекспира? Отчего Платон занимает такое высокое место среди философов, так что современный историк философии мог бы сказать, что все последующие философы были лишь комментаторами?»
Я прошу понять, что я не противопоставляю частное общему. Конечно, у каждого частного есть свои особенные характеристики. Я говорю о работах, которые становятся несравненными в своем собственном жанре. Но обычно несравненное происходит из длинной череды трудоемких усилий. Шекспир бы не стал тем, кем он стал, если бы не вся история театра, предшествовавшая ему. Однако можно сделать тысячи сравнений, так и не поняв уникальное с их помощью.
Тем не менее, знаток должен обладать неким аппаратом, некой способностью производить такие различения, как правило, в результате длительной практики. Как правило, человек с улицы не обладает такой способностью; все, что он может сообщить – свое субъективное впечатление, как например: «мне нравится эта музыка» или «это мне не нравится». Способность знатока чувствовать носит объективный характер. Он понимает уникальность произведения. Мне достаточно повезло, что у меня были учителя, которые развивали это чувство в своих учениках, подводя нас к радостным открытиям в литературе, искусстве, истории и музыке.
Именно в это время я обнаружил ключевую идею, которая стала затем центральной темой всего моего богословия как Gestalt – сложное для перевода выражение, которое можно передать как форма, фигура, вид. Хопкинс (Hopkins) в свое время ввел понятие inscape[3].
Наш разум постигает организованное целое со всей детализацией, необходимой для понимания основной идеи, проявленной в своей полноте. Великое произведение искусства строится не из уже готовых слов, но создает из запечатляемого в момент рождения языка совершенно новый лексикон, неслыханные слова, которые, будучи произнесены, самопонятны тем, у кого есть глаза и уши для этого. Каждый ребенок радуется арии Папагено, тогда как ария отчаяния Памины или прощальный терцет[4] потрясают даже искушенного знатока. Невозможно наслушаться такими музыкальными произведениями, как фуги Баха. Каждый раз они сообщают, даже «умелым сердцам» одаренных слушателей, бульшую глубину, более глубокое удовлетворение.
Философы искусства, как Шеллинг или Гегель, попытаются объяснить, почему тот или иной период истории оказался готов к восприятию Софокла, Данте или Шопена, но все равно необъяснимо, почему произведение искусства именно тогда обретает свою форму. Его необходимость обусловлена не внешними, но внутренними причинами.
Этому есть параллель в открытии, сделанном персоналистической философией, с которым я познакомился сначала благодаря Р. Аллерсу, а затем благодаря Ясперсу и Буберу. Эта параллель заключается в любви, которая возвышается над Эросом. Истинная любовь может различить и удержать уникальность любимого среди подобных ему в своем роде, даже когда эротическое влечение угасло. Объекты этого мира участвуют в уникальности Бога не только в качестве представителей своего рода, но, в особенной мере, и индивидуально. Чем они духовнее, тем они уникальнее. Святые, например, образуют семью – communio sanctorum, общение святых, но каждый из них несравненен. В них выражается тем самым, снова и снова, уникальность Бога.
Теперь вы видите, как происходит переход от искусства к богословию. Это увлечение не происходит из религиозного чувства, которое существует субъективно в каждом человеке. Поскольку мы все – творение божье, мы обладаем desiderium visionis bonae absolutis (желанием видеть абсолютное благо). Это может привести человека к изучению философии религии или истории религии; но ни то, ни другое меня никогда сильно не интересовало.
Нас влечет именно Иисус Христос – если видеть Христа так, как он говорит о себе – с той его уникальностью, которая не может быть сравнима ни с чем в человеческой истории. Отцы церкви называли такую способность видеть – «взгляд веры». Если мы видим Христа, то мы видим Слово Божье в его существенной органичной целостности. Для этого видения, в первую очередь, нам необходим Ветхий Завет, заранее создавший тот лексикон, с помощью которого мог выражаться Христос: завет, великие пророчества об избавлении и разрушении; мессианское и священническое; этика, подчиненная власти Бога через повиновение заповедям; освобождение человечества; свидетельство, которое будет возвещено народам; страдание праведных; жестоковыйность народа, противящегося слову Божьему, – все это (иногда несовместимые) элементы, которые объединены в лице Христа. К ним же относится идея плодовитости бесплодной женщины: ряд таких событий тянется напрямую из Ветхого Завета, от Сары через Анну к Елизавете, к непорочному зачатию Христа Марией.
Но вернемся к более важному – к фигуре Иисуса, ибо он есть единственный образ Бога (Ин 1:8), который бесконечно богат и при этом обладает парадоксальной простотой, вбирающей в себя все элементы. Он есть абсолютная власть и абсолютное смирение; он бесконечно досягаем, к нему может приступить каждый, и он же бесконечно недоступен, за пределами достижимого.