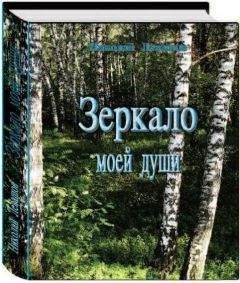Рудольф Штайнер - Мой жизненный путь
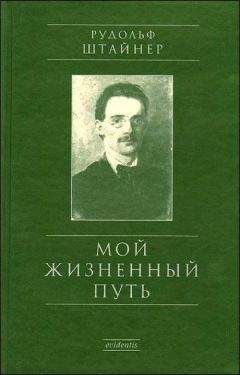
Обзор книги Рудольф Штайнер - Мой жизненный путь
Глава первая
На открытых обсуждениях вопросов основанной мной антропософии в последнее время стали приводиться сведения и суждения о моей жизни. Из того, что было сказано в этом направлении, делались выводы о причинах изменений, которые, как многие полагали, имели место в процессе моего духовного развития. В ответ на это мои друзья выразили пожелание, чтобы я сам написал о своей жизни.
Должен признаться, что у меня нет к этому особенной склонности. Ибо своим словам и делам я всегда стремился придать такой вид, какого требуют сами вещи. Но при этом я всегда придерживался мнения, что личностное во многих областях придает человеческой деятельности особую окраску. Однако мне кажется, что это личностное должно проявляться в словах и поступках без оглядки на собственную личность. В противном случае возникает проблема, которую человек должен решать с самим собой.
Написать эту книгу меня побудило лишь то, что я чувствую себя обязанным опровергнуть некоторые ложные представления, касающиеся связи моей жизни с антропософией, и представить ее в истинном свете. Настоятельное желание этого со стороны дружески настроенных ко мне людей также кажется мне обоснованным.
Родиной моих родителей[1] была Нижняя Австрия. Отец мой родился в Герасе, маленьком местечке в нижнеавстрийском лесном районе, моя мать — в Горне, городе, расположенном в той же местности.
Детство и юность моего отца прошли в тесном общении с монастырем премонстрантов[2] в Герасе. Он всегда с любовью вспоминал об этом периоде своей жизни и с величайшим удовольствием рассказывал о том, как он служил в монастыре и учился у монахов. Позднее он стал егерем на службе у графа Гойоса, имение которого находилось в Горне; там он и познакомился с моей матерью.
Спустя некоторое время он оставил свою егерскую службу и поступил на Южно-австрийскую железную дорогу, получив сначала место телеграфиста на маленькой станции в южной Штирии. Вскоре его перевели в Кральевец — местечко, расположенное у венгеро-хорватской границы. В это же время он женился на моей матери, девичья фамилия которой Блие. Она была родом из семьи, издавна проживающей в Горне. Я родился в Кральевце[3] 27 февраля 1861 года. Место моего рождения находится, таким образом, далеко от местности, откуда исходят мои корни.
Мои отец и мать были истинными детьми той чудесной лесной местности, что расположена в Нижней Австрии к северу от Дуная. Железная дорога появилась там сравнительно поздно. В Герасе и до сих пор ее нет. Мои родители любили свою родину и все, что было связано с ней. Когда они вспоминали пережитое, то казалось, что душой своей они не покидали родные края, хотя судьба и предназначила им провести большую часть жизни вдали от них. И когда отец после долгих лет работы вышел в отставку, они сразу же переехали в Горн.
Отец мой был человек очень доброжелательный, но обладал страстным, вспыльчивым темпераментом, особенно во времена своей молодости. Служба на железной дороге была для него обязанностью: он не питал особой любви к ней. Когда я еще был мальчиком, ему приходилось иногда проводить на службе по трое суток кряду. За этим следовал суточный отдых. Жизнь не блистала для него яркими красками, но предоставляла ему лишь серые будни. Любимым занятием его было следить за политическими событиями, живо реагируя на них. Мать моя, из-за недостаточности средств, была всецело погружена в хозяйственные заботы. Дни ее были наполнены нежным уходом за детьми и маленьким хозяйством.
Когда мне было полтора года, отца моего перевели в Мёдлинг, близ Вены. Там мои родители прожили пол- года, а затем отца назначили начальником маленькой южной станции Потшах в Нижней Австрии, недалеко от штирийской границы. Здесь я жил с двух- до восьмилетнего возраста. Детство мое протекало в чудесной местности. Вокруг возвышались горы, связывающие Нижнюю Австрию со Штирией: Шнееберг, Вексель, Раксальп, Земмеринг. Обнаженная скалистая вершина Шнееберга первая озарялась лучами солнца, которые достигали затем и маленькой станции, принося с собой в эти прекрасные летние дни первый утренний привет. Серый хребет Векселя составлял со всем этим окружением навевающий серьезное настроение контраст. Местность кругом была покрыта зеленью, которая нежно ласкала взор и еще более оттеняла эти горы. Вдали — исполненные величия горные вершины, а в непосредственной близи — псе очарование природы.
И все же интересы маленькой станции сосредоточивались на железной дороге. Поезда в то время курсировали в этой местности с большими промежутками, но когда поезд прибывал на станцию, здесь собирались обитатели села, жаждавшие хоть какого-нибудь разнообразия в жизни, протекавшей у них буднично и монотонно. Здесь можно было встретить школьного учителя, священника, счетовода из имения, часто — бургомистра сельской общины.
Думаю, что детство, проведенное в таком окружении, имело для моей жизни важное значение. Ибо мои интересы в значительной степени оказались связанными с механической стороной бытия. И я знаю, как они все время пытались приглушить в детской душе идущее от сердца влечение к чарующей и величественной природе, в далях которой все снова и снова исчезали подчиненные механизму поезда.
На всем этом фоне выделялась одна весьма оригинальная личность — священник из Сан-Валентина[4], местечка, расположенного в трех четвертях часа ходьбы от нас. Священник этот любил бывать у моих родителей. Почти каждый день после прогулки он приходил к нам и просиживал у нас довольно долго. Это был здоровый, широкоплечий человек, являвший собой тип либерального католического священника, отличающегося терпимостью и доброжелательностью. Весьма остроумный, он охотно шутил и любил, когда вокруг него смеялись. И даже после его ухода люди долго еще радовались, вспоминая его шутки. Человек практического ума, он любил давать добрые практические советы. Наша семья долго пользовалась одним из них. По обе стороны полотна железной дороги в Потшахе росли белые акации. Однажды, когда мы шли по тропинке, идущей вдоль этих деревьев, священник вдруг воскликнул: "Ах, какие красивые цветки акации!". Мгновенно забравшись на дерево, он нарвал изрядное количество этих цветков, затем развернул свой огромный красный носовой платок — он был страстным нюхальщиком табака, — тщательно завернул в него свою добычу и сунул узелок под мышку. "Вам повезло, что у вас столько акаций", — сказал он. Отец мой, весьма изумленный, заметил: "Нам-то какая польза от них?" — "Ка-а-к? — возразил священник. — Разве вы не знаете, что цветки акации можно готовить точно так же, как бузину? А на вкус они даже лучше, потому что гораздо тоньше аромат". С этого дня на нашем обеденном столе стали появляться, когда к этому представлялся случай, цветки акации.
В Потшахе у моих родителей родились еще дочь и сын[5]. Больше детей не было.
Будучи совсем маленьким, я обладал весьма своеобразной привычкой. Как только я научился есть самостоятельно, на меня приходилось обращать особое внимание, потому что у меня сложилось представление, будто суповую тарелку или чашку можно использовать только один раз. Поэтому всякий раз после еды, если на меня не обращали внимания, я бросал тарелку или чашку под стол, где она и разбивалась. И если в этот момент появлялась мать, я встречал ее возгласом: "Мама, я уже кончил".
Это не могло быть у меня жаждой разрушения, ибо с игрушками я обращался крайне осторожно и они долго сохранялись в хорошем виде. Особенно меня привлекали 1-e из них, которые и сегодня я считаю наилучшими: книжки с картинками из подвижных фигур, которые снизу при помощи ниток приводились в движение. Картинки, под которыми помещались маленькие рассказы, оживали по мере того, как фигуры начинали двигаться. Целыми часами просиживал я вместе с сестрой перед этими книжками и научился — как бы естественным образом — первым основам чтения.
Отец мой, со своей стороны, приложил все усилия, чтобы я рано научился читать и писать. Когда я достиг школьного возраста, меня определили в сельскую школу. Учитель был пожилой человек, весьма тяготившийся преподаванием; но и мне, в свою очередь, было тягостно присутствовать на его уроках. Я не верил, что смогу у него чему-нибудь научиться, и вот почему. Он часто заходил к нам со своей женой и сыном. А сын их, по моим тогдашним понятиям, был большим озорником. "У кого сын такой шельмец, — вбил я себе в голову, — у того ничему не научишься". И однажды произошло нечто "совершенно ужасное". Этому мальчику, тоже учившемуся в нашей школе, пришла в голову такая забава: он взял лучинку, начал макать ее во все чернильницы и обводить круги вокруг них. Отец его обнаружил это. В школе почти никого из учеников уже не было. Остались я, учительский сын и еще два мальчика. Учитель был вне себя, ужасно ругался; и не будь он постоянно охрипшим, он бы зарычал как зверь. Но, несмотря на свою ярость, по нашему поведению он все же понял, кто виновник всего этого. Однако дело повернулось иначе. Школьная комната была смежной с комнатой учителя. "Госпожа старшая учительница", услышавшая весь этот шум, вдруг вошла в класс, с весьма свирепым видом размахивая руками. Не сомневаясь в том, что ее сыночек неспособен на такое, она обвинила меня. Я убежал из класса. Отец мой страшно рассердился, когда я поведал ему эту историю. Когда учитель с женой вскоре после этого пришли к нам, он со всей ясностью заявил им о прекращении дружеских отношений и добавил: "Ноги моего мальчика больше не будет в вашей школе".