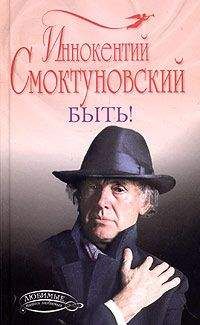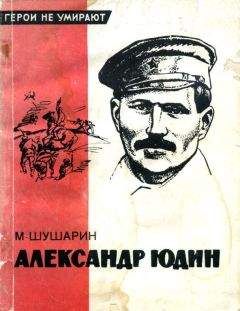Михаил Евзлин - Космогония и ритуал
Это описание расчетливого и рационального немца позволяет предположить, что он был протестантом. Осторожность, закрытость „страстям молодости“, маниакальное желание обрести независимость, которая понимается как обладание капиталом, — точное описание душевного и умственного состояния человека эпохи Просвещения, начало которому было положено Реформацией.
И тем не менее за рационализированной поверхностью сознательного скрываются «сильные страсти и огненное воображение».
«В душе» Германн был «игрок», но «никогда не брал карты в руки». Делал он это из расчета, однако «целые ночи просиживал за карточными столами, и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры». Отмечается также и другая его черта: «он был скрытен и честолюбив». Скрывается эта „вторая натура“ игрока. Честолюбие также связано с этим скрытым качеством Германна: он может удовлетворить его через игру, которую сам себе запретил. Игра для Германна является тем запретным, которое неодолимо и фатально влечет его к себе. И посему именно через игру вступает он против сознательной воли, но влекомый своей тайной натурой игрока, в контакт с миром бессознательного и архетипического, невольно в него заглядывает, погружается и никогда уже из него не выходит.
Пока Германн пребывает в сознании, начавший являться в его разгоряченном воображении архетипический мир он оценивает (или пытается оценивать) с точки зрения обыденного разума. По этому поводу (об отношении разума к бессознательному) Юнг, этот, быть может, самый замечательный современный критик рационального сознания, говорит: «В действительности, человек открыл только одно: над своими образами он еще совсем не размышлял. И когда он начинает над ними размышлять, он делает это с помощью того, что он называет „разумом“, который в действительности является ничем иным, как суммой предосторожностей и близорукости»[30].
«Анекдот о трех картах сильно подействовал на его (Германна. — М.Е.) воображение». Возникает положение, когда: «Наши сознательные намерения … встречают противодействие … со стороны бессознательных вторжений, глубинные причины которых мы не можем понять»[31]. Собственно, „три карты“ явились своего рода архетипом, который, совершив „прорыв“ в сознание Германна, наполнил его своей темной стихийностью и в конце концов разрушил: «…активизируется архетип, соответствующий ситуации, вследствие чего начинают действовать взрывные и опасные силы, скрытые в архетипе, имеющие часто последствия, которые невозможно предусмотреть. Нет безумия, которым не может быть охвачена личность, находящаяся во власти архетипа»[32].
Этот „прорыв“, разумеется, произошел не сразу; он подготавливался просиживанием «целыми ночами за карточными столами» и лихорадочным наблюдением «за различными оборотами игры». Сама по себе игра также является архетипом. По всей видимости, «следя с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры», Германн надеялся найти какой-то рациональный принцип, правило. Но вместо „принципа“, „правила“ он касается тайны „трех карт“, т. e. непосредственно соприкасается с иррациональными хаотическими силами, которые в азартной игре находят для себя выход. Возникает ситуация, по словам Юнга, «которая соответствует определенному архетипу, тогда архетип активизируется и образуется принудительность, которая подобно силе инстинкта, прокладывает себе дорогу вопреки разуму и воле или же является причиной конфликта, имеющего патологические размеры»[33].
Окончательное погружение Германна в бессознательное происходит во сне. «Ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства…» После этого он весь оказывается во власти некоей неведомой силы. От всех рациональных установок в возбужденном мозгу Германна осталась одна, сделавшись маниакальной идеей обогащения любой ценой. Всё, что происходит с ним далее, — delirium. Последняя сцена, когда он «обдернулся» и вместо туза поставил пиковую даму, в точности соответствует сну: он теряет свое «фантастическое богатство». После этой потери, которая совершается в бреду[34], Германн сходит с ума.
О том, что описывается delirium, можно заключить из сцены явления мертвой графини. Она является ему не во сне, но как бы в действительности. Но если это не сон, то ничем иным, как галлюцинацией, это явление быть не может.
Идея «вынудить клад у очарованной фортуны (курсив наш. — М.Е.)» стала всепоглощающей в потухшем сознании Германна. Это патологическое состояние описывается Пушкиным с замечательной точностью: «Две неподвижные (курсив наш — M.E.) идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах».
Архетип динамичен только в своих внешних воплощениях, но в самом себе он статичен, представляя собой чистую форму, модель или предрасположенность[35]. Таким образом, неподвижной может быть только архетипическая идея, вытеснившая из сознания все прочие и заполнившая его собой. И поскольку идея-архетип приходит из мира бессознательного, заполняя собой сознание, разрушая его таким образом, она отделяет его от реальности. Вернее было бы сказать: в тот момент, когда перестает существовать сознание, перестает существовать реальность и наступает delirium. Поэтому всё, что происходит с Германном с того момента, когда он услышал «анекдот о трех картах» — не реально, а сюрреально. Здесь разыгрывают свою драму не люди, а архетипы. И сценой для нее являются не петербургские салоны, а разгоряченное воображение бедного инженера, возымевшего странную идею — «вынудить клад у очарованной фортуны», не веря ни в фортуну, ни тем более в очарованность, т. е. во всё то, что рациональным сознанием объявлено было „сказкой“ («Сказка! — заметил Германн», что было первой его реакцией на «анекдот о трех картах»).
Лучшим комментарием здесь были бы слова Юнга: «Патологический элемент содержится не в существовании представлений, а в диссоциации сознания, ставшего неспособным доминировать над бессознательным»[36].
И далее. «Anima доставляет нам мотивы, которые убеждают нас нас не бросаться в бессознательное, избегая таким образом разрушения наших моральных запретов и высвобождения сил, которые лучше не тревожить»[37]. «И тем не менее, „наше сердце пылает“ и тайное беспокойство подтачивает корни нашего бытия»[38].
Драма Германна, сосредотачивая в себе фундаментальные мифологические мотивы, таким образом является также драмой рационального сознания, закрытого и потому незащищенного от темной своей глубины, выродившегося в «материалистическое доктринерство, которое представляет восстание хтонических сил»[39].
2. Рыцарь и душа. Тема души и стихии в повести Фридриха де ла Мотт Фуке Ундина
Ундина, центральный персонаж повести де ла Мотт Фуке, рассказывает рыцарю:
Знай же мой любимый, что стихии населены существами, по виду почти такими же, как вы […] Все прекрасное, чем владел старый мир и чем новый недостоин насладиться, все это укрыли волны […] Те, кто там обитает, прекрасны и пленительны, прекраснее, чем люди. […] Мы были бы гораздо лучше вас, прочих людей, — ибо мы тоже зовем себя людьми, да ведь мы и в самом деле люди по облику и сложению, — но в одном мы хуже вас. Мы и подобные нам порождения других стихий бесследно рассыпаемся в прах духом и телом […] у нас нет души, стихия движет нами […] Однако все на свете стремится на более высокую ступень[40].
Это описание мира „стихий“ во многих отношениях совпадает с гесиодовским описанием „золотого века“ в Трудах и днях:
Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских.
Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили,
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства, —
Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.
После того, как земля поколение это покрыла[41],
В благостных демонов все превратились они наземельных
Волей великого Зевса: людей на земле охраняют,
Зорко на правые наши дела и неправые смотрят.
(Hes. Ор. 109–124)[42]