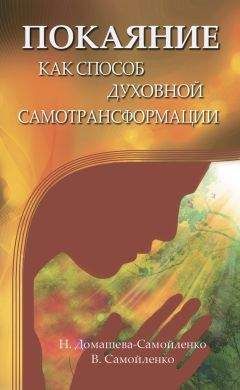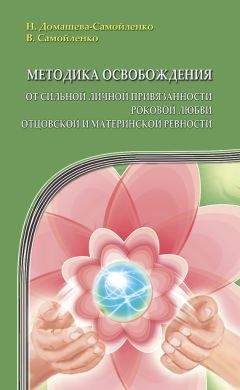Лев Шестов - Афины и Иерусалим
Все средневековье, вся сосредоточенная и глубокая духовная работа средневековья была направлена на то, чтоб разумно объяснить заключавшуюся в Св. Писании тайну. И так устроен человек, что, когда он над чем-нибудь много потрудится, ему начинает казаться, что то, к чему он стремился, есть самое главное в жизни, что и ему и другим больше всего на свете нужно. Казалось бы, что самое существенное, это что Бог принял человеческий образ, что Бог открылся, показался, пришел к людям. Так в Св. Писании и рассказывается. Но «мышление» ценило не то, что в Св. Писании рассказано, а то, что оно само могло выдумать: оно и Св. Писание только потому и приняло, что могло понять и объяснить его, т. е. показать, что библейское повествование ничуть не оскорбляет и не противоречит тем принципам, которым человек от века покорился и провозгласил навеки нерушимыми. Если бы пред лицом этих принципов оказалось, что Богу вочеловечиться не полагается или невозможно, пришлось бы Св. Писание отвергнуть. В конце концов оно так и вышло. «Доказательства» и «объяснения», придуманные средневековыми философами, оказались вовсе не доказательствами и не объяснениями. Выяснилось, что защитить средствами разума истины «откровения» нет никакой возможности. Что вообще даже истины Откровения нельзя защищать, что они не защитимы. Иначе говоря, приходится выбирать одно из двух: либо признать, что истины Откровения не суть истины и что Библию наряду с творениями Гомера нужно отнести к области чистой поэзии – либо… Было и есть еще одно «либо», т. е. была возможность еще одного выхода – но этот выход казался до такой степени противным всему складу человеческой природы (может быть, не «первой», а «второй» природы – по поговорке, привычка вторая натура), что о нем даже не говорили или говорили только те люди, которые вперед решались говорить с тем, чтоб их не услышали. «Бога не нужно объяснять и нельзя совсем оправдывать». Это и хотел сказать Оккам. И этого никто не услышал. И если теперь я вспомнил о никем не услышанных словах, то вовсе не потому, что надеюсь обратить на них внимание и проложить им путь к сердцам людей. Тут кроется какая-то великая и странная загадка. Существуют слова, которые осуждены на то, чтоб не быть услышанными.
И вместе с тем, по-видимому, кому-то или чему-то нужно, чтоб эти слова время от времени произносились во всеуслышание. Древний и таинственный образ: глас вопиющего в пустыне. Быть может, не так уже бессмысленно и бесполезно хоть изредка напоминать людям о тех «вестниках истины», голоса которых обладали чудодейственной силой превращать людные места в пустыни. И еще одно «может быть» – пожалуй, еще более таинственное. Паскаль, повторяя жившего до него за 1500 почти лет Тертуллиана, утверждал, что на земле нет места для истины, что истина блуждает между людьми, никем не узнаваемая и не признаваемая. То есть что истина потому и есть истина, что она превращает одним появлением своим людные города в безлюдные пустыни. Когда истина осеняет человека, он сразу чувствует, что «все», «люди», т. е. те, которые превращают пустыню в населенные места, обладают даром или ничем не объяснимой силой убивать истину. Оттого Достоевский, в минуты просветления, с таким ужасом и отвращением говорил о «всемстве». Оттого Плотин вещал о «бегстве единого к Единому». Оттого все существовавшие и так победоносно торжествовавшие «теории» познания были и есть теориями, скрывавшими от нас истину. Нужно уйти от них к тем древним и блаженным людям, которые, по словам Платона, были лучше нас и стояли ближе к Богу – их же «мышление» свободно парило в том измерении, которое нам становится – и то очень редко – доступным только после exercitia spiritualia.
XLIII
О догматизме. В догматизме неприемлемо отнюдь не то, что он, как говорят, произвольно утверждает недоказанные положения. Может, быть, как раз наоборот: и произвол, и пренебрежение к доказательствам располагали бы людей к догматизму. Ведь что бы там ни говорили, люди по природе своей больше всего любят произвол и покоряются доказательствам только потому, что не в силах преодолеть их. Так что в догматизме можно было бы усмотреть великую хартию человеческих вольностей. Но он как раз этого боится больше всего на свете и всячески старается прикинуться таким же послушным и разумным, как и другие учения. Это лишает его всякого очарования. Больше того: вызывает к нему отвращение. Ибо раз скрывает – значит, стыдится и другим велит стыдиться. Стыдиться свободы и независимости – разве такое можно простить?
XLIV
Свет знания. Сальери, рассказывает Пушкин, поверял алгеброй гармонию, но «творить» ему не было дано, и он удивлялся, даже негодовал, почему Моцарту, который такой поверкой не занимался, удалось подслушать райские песни, а ему, Сальери, не удалось. Как будто выходит, что он был прав. «Гуляка праздный» попадает уже на земле хоть в преддверие рая, а добросовестный труженик все ждет у моря погоды – и не дождется. Но в старой книге сказано: пути Господа неисповедимы. И когда-то люди понимали это, понимали, что путь в обетованную землю не открывается тому, кто поверяет алгеброй гармонию, вообще тому, кто «проверяет». Авраам пошел, сам не зная, куда идет. А если бы стал проверять – никогда бы не дошел до обетованной земли. Стало быть, проверки, оглядки – «свет» знания не всегда ведет к лучшему, как нас учили и учат думать.
XLV
Принудительные истины. Огромное большинство людей не верят истинам той религии, которую они исповедуют: еще Платон говорил – τοι̃ς πολλοι̃ς ἀπιστία παρέχει – толпе присуще неверие. Поэтому им нужно, чтоб окружающие верили в то же, во что они официально верят, и говорили то же, что они говорят: только это и поддерживает их в их «вере», только в окружающей их среде они находят источники, из которых черпают твердость и крепость своих убеждений. И чем менее убедительными кажутся им откровенные истины, тем важнее для них, чтоб этих истин никто не оспаривал. Оттого обычно самые неверующие люди – самые нетерпимые. Так что если критериумом обыкновенных научных истин является возможность сделать их для всех обязательными, то для истин веры приходится сказать, что они только в том случае есть настоящие истины, если они могут и умеют обходиться без согласия людей, когда они равнодушны и к признанию и к доказательствам. Положительные религии, однако, такие истины не очень высоко расценивают. Они хранят и их, т. к. без них обойтись не могут, но опираются на такие истины, к которым всякого можно принудить, и даже истины откровения ставят под охрану закона противоречия, чтоб они были не хуже всякой другой истины. Католичеству, как известно, охрана закона противоречия показалась недостаточной, и оно выдумало инквизицию, без которой, конечно, оно не сыграло бы своей огромной исторической роли. Оно охраняло себя «нетерпимостью» и даже ставило себе в заслугу свою нетерпимость – ему и на ум не приходило, что то, что нуждается в защите закона противоречия или палачей и тюремщиков, находится за пределами божественной истины, и что спасает людей то, что на наши мерки представляется наиболее слабым, непрочным и незащищенным. В противуположность истинам познания, истины веры узнаются по тому признаку, что они не знают ни всеобщности, ни необходимости, ни Сопутствующей всеобщности и необходимости принудительности. Они свободно даются, свободно принимаются, ни пред кем не отчитываются, никем не регистрируются, никого не пугают и сами никого не боятся.
XLVI
Автономная мораль. Автономная мораль получила, как известно, свое наиболее полное и законченное выражение в учении Сократа, утверждавшего, что добродетель не нуждается в воздаянии и что – все равно, смертна или бессмертна душа – хороший человек получает все, что ему нужно от «добра». Но я думаю, что Сократ (как и Кант, который в «Критике практического разума» шел по стопам Сократа) не был достаточно последователен и что «добро» такими изъяснениями покорности не удовлетворится. Нужно сделать еще один шаг, нужно признать, что бессмертие души совсем не для чего «хорошему» человеку – и от бессмертия совсем отказаться. Т. е. признать, что Сократ – смертен, ибо уже здесь, на земле, получил от «добра» все, чего он мог желать, а бессмертен Алкивиад и ему подобные, которым «добро» ничего не дает или дает очень мало и которые существуют по воле иного начала, в этой, земной жизни не успевающего осуществить свои обещания и откладывающего неосуществленное до встречи в иной жизни. Такое признание, только такое признание может дать настоящее удовлетворение «добру» и положить конец спорам об автономной и гетерономной морали. Люди типа Сократа, добровольно приявшие «добро» за высшее начало, тоже добровольно отказываются и от загробной жизни, им совершенно не нужной, в пользу людей типа Алкивиада, которые, как подчиненные иному началу, чем сократовское добро, вправе и ждать и требовать себе продолжения существования и после смерти. Конечно, с точки зрения Сократа, Алкивиады все-таки прогадают: сто самых счастливых и удачных жизней без «добра» не стоят одной, самой трудной и горестной, но в добре. А философия, наконец, сможет торжествовать свою полную победу: и Сократы, и Алкивиады получат полное удовлетворение и всякие споры прекратятся.