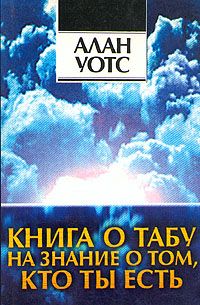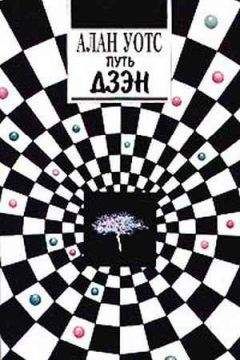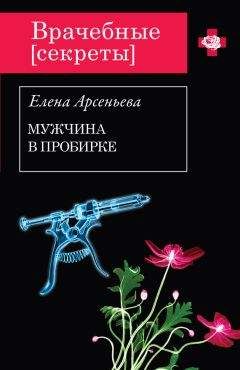Алан Уотс - Природа, мужчина и женщина. Путь освобождения.
Усилить эту точку зрения можно рассуждением о том, что, каким бы разительным ни был контраст между христианством и природой, нигде вы не найдете религии, столь идеально соответствующей природе человека. По большому счету, натуралистические религии не дают человеку большей надежды, чем философское осознание неизбежности, благородное, но прискорбное принятие того, что природа находится за пределами добра и зла и что смерть — это необходимая составляющая жизни подобно тому, как невозможно испытывать боль, не зная, что такое удовольствие. Однако признание неизбежности смерти отрицает самое человеческое в человеке: его детскую надежду на то, что в один прекрасный день глубочайшие чаяния его сердца осуществятся. Много ли найдется гордых и бесчувственных людей, которые не обрадовались бы, если бы, по мановению волшебной палочки, эти сокровенные надежды осуществились? Если бы узнали, что после смерти нас ждет вечная жизнь? Если бы узнали, что снова встретятся и будут жить вместе с людьми, которых любили? Если бы им предложили пребывать в вековечном единении с Богом и знать блаженство, которое неизмеримо превосходит все радости, когда- либо испытанные нами, — включая радость видения цветов и форм, которые мы так высоко ценим на земле?
Таким образом, говорят сторонники христианства, эта религия воскрешает в нас надежду, отрицаемую мудростью мира, и поэтому можно сказать, что это единственная по существу радостная религия. Ведь одно лишь христианство, невзирая ни на что, смело делает ставку на положение вещей, на которое мы больше всего надеемся, побуждая человека верить в то, что его природа в своих самых человеческих проявлениях сделана по образу и подобию первичной реальности, Бога… Причем, следует добавить, что, даже если мы проиграем эту игру, мы никогда не будем знать, что мы потеряли.
Возможно, это нельзя назвать самой проработанной версией окончательного идеала, в которому стремится христианство. Однако здесь мы имеем хорошее приближение к нему. Ведь обсуждая отношение христианства к природе, я пока не обращаюсь к глубинным истокам христианской традиции. Я пытаюсь представить здесь отношение христианства в том виде, каким его знают большинство разумных людей, потому что именно в этом виде оно было движущей силой западной культуры.
Читая эти страницы, многие христиане, наверное, будут протестовать, утверждая, что они понимают отдельные аспекты христианства совсем не так. Они могут также сказать, что картина, нарисованная мной, несовершенна с теологической точки зрения. Однако я обнаружил, что когда христианские теологи вдаются в тонкости, обращаясь к мистицизму, — особенно если удается неформально построить разговор и спросить у них, что они на самом деле имеют в виду, — провести различие между их точками зрения и, скажем, ведантой практически невозможно.
Однако здесь мы обсуждаем черты, которые делают христианство уникальным, ведь большинство разумных, неравнодушных к своей религии христиан утверждают, что их религия уникальна, — даже если они никогда глубоко не изучали другие духовные традиции. Здесь мы обсуждаем прежде всего атмосферу и тип чувств, пробуждаемых христианством и оказывающих столь существенное влияние на культуру. Притягательная сила этих чувств столь велика, что на практике верующие испытывают их влияние даже в том случае, когда их интеллектуальное понимание веры очень поверхностно. Между тем христианство взывает к очень сильным чувствам — любви человека к ему подобным, глубинной ностальгии по дому и по близким людям. К этому добавляется очарование героизмом, призывы верить в окончательную победу над злом и страданием. Когда не-христианин сталкивается с такими чувствами, ему может показаться, что он чего-то не понимает в жизни, играя роль скелета на пиршестве.
Однако христианские идеалы кажутся людям убедительными, потому что глубоко в своем сердце человек действительно чувствует себя оторванным от природы, стремится к радости и избегает страданий и тоски. Ницше говорил в «Заратустре»:
Все радости жаждут вечности,
Глубокой, великой вечности.
Однако утверждать, что такие настроения являются универсальными для природы и чувств человека, означает быть сторонником довольно поверхностного самосознания и путать прививаемое в ходе общественного воспитания с тем, что человек чувствует абсолютно и неизбежно. Чем глубже человек познает себя, чем менее четко он определяет свою природу и границы своих чувств, тем больше он убеждается, что может чувствовать и осознавать неожиданным образом. Это еще более верно, когда он начинает исследовать свои отрицательные эмоции, глубоко вживается в чувство покинутости, в тоску, горе, депрессию и страх, — не пытаясь их избежать.
Во многих так называемых примитивных культурах каждый представитель племени должен пройти своеобразную инициацию во взрослую жизнь, проводя длительные промежутки времени в одиночестве в горах или лесах. Предполагается, что при этом он приобщается к одиночеству и дикой природе, с тем чтобы понять, кто он такой. Это открытие невозможно сделать, когда он находится в обществе, которое постоянно говорит ему, кто он и что он должен делать. Человек может обнаружить, например, что чувство покинутости — это всего лишь скрытый страх перед неизвестным в нем самом, а пугающие аспекты природы—всего лишь проекция на окружающий мир его собственного страха выйти за пределы стереотипов поведения. Есть многочисленные подтверждения тому, что человек, преодолевший барьер одиночества, навсегда утрачивает чувство изолированности, которое сменяется переживанием единства со вселенной. Можно называть это «природным мистицизмом» или «пантеизмом», однако не следует забывать, что такого рода чувства гораздо лучше соответствуют вселенной взаимозависимых объектов и отношений, чем миру, который построен из объектов, как из кирпичей.
Чем глубже мы понимаем переливы наших чувств, тем яснее мы постигаем их амбивалентность — странную взаимодополняемость радости и грусти, любви и ненависти, смирения и гордости, восторженности и подавленности. Мы обнаруживаем, что наши чувства являются не фиксированными, плохо связанными друг с другом состояниями, а быстро или медленно меняющимися процессами. С этой точки зрения вечная радость, например, будет столь же бессмысленна, как представление о маятнике, который может колебаться только вправо. Другими словами, именно потому, что оно статично, перманентное чувство — это не чувство. Таким образом, вечное блаженство — это всего лишь словесная абстракция, которую невозможно воображать, чувствовать, даже пожелать. Такие идеи могут серьезно рассматриваться лишь теми, кто не до конца познал природу своих чувств, реалии человеческого естества, которое они считают образом и подобием Бога.
Здесь мы видим причины, почему христианство, каким мы его знаем, столь разительно контрастирует с естественной вселенной. Христианство в значительной степени есть совокупность идей и представлений, которые были сведены воедино без учета их несоответствия миру природы. Верно, что в математике и физике имеются чисто теоретические построения и идеи, для которых у нас нет чувственных образов, — например, искривленное пространство или квант света. Однако в физике по крайней мере эти идеи соотносятся с физическим миром; их можно проверить в ходе эксперимента. Более того, физик не утверждает, что его идеи обязательно представляют конкретную реальность. Он смотрит на них как на инструменты, подобные линейке, с помощью которых можно измерять окружающую реальность. Таким образом, для физика абстракции — это полезное изобретение, а не часть мира.
Может, основные идеи христианства также подобны творческим изобретениям, как сами города, в которых они возникли? Это, разумеется, верно в отношении любой религии или философии, — если ее можно свести к совокупности идей, не подтверждаемых непосредственными переживаниями. Однако в этом отношении христианство сильно отличается от таких традиций, как, скажем, буддизм или веданта. В последних идеи играют второстепенную роль, потому что в центре находится неизреченное переживание — реальное, невербальное постижение, не являющееся идеей. Между тем в христианстве основной упор делается на веру, а не на переживание. При этом большое внимание уделяется правильной формулировке догмы, учения или ритуала. В самом начале своей истории христианство отвергло гносис, прямое переживание Бога, в пользу пистиса, волевого принятия откровения о Боге.
Поэтому дух отличается от природы как абстрактное от конкретного, а духовные сущности отождествляются с умом — с миром слов и абстрактных символов, — которые рассматриваются не как описание конкретного мира, а как его основа. «В начале было Слово». Сын Божий — это Божественная Идея, в соответствии с которой сделана вселенная. Таким образом, сфера абстракций не просто существует независимо. Она получает статус более фундаментальной реальности, чем реальность невербальной природы. Не идеи представляют природу, а природа представляет идеи, воплощенные в бренной материальной субстанции. Поэтому то, что невозможно и немыслимо в природе, оказывается возможным в мире идей. Положительное здесь может быть навсегда отделено от своего дополнения, отрицательного, а радость от своей противоположности, печали. Одним словом, чисто словесная возможность рассматривается здесь как нечто более реальное, чем физическая реальность. Нетрудно видеть, что таким образом проявляет себя мысль, убегающая от себя, теряющая над собой контроль и защищающая себя от обвинения в бессмысленности утверждением, что ее реальность первична, тогда как природа есть лишь неудачная копия этой реальности.