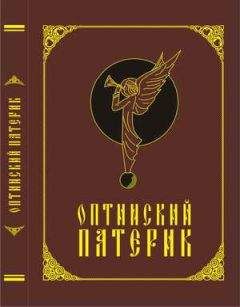Тимонг Лайтбрингер - Записки недопросветленного [поэзия]
Жизнь текла - он взрослым становился, годы шли - и вот он возмужал, но любви студенток не добился, никогда хотя не обижал. Он всегда к ним был неравнодушен, не всегда то, впрочем, говоря - но зачем таким он был им нужен ? - им ты дай звериного царя. Им ты дай подобного герою, им ты дай подобного горе, лишь один процент - возможно, с горю, - об ином мечтают о царе. Но держался, впрочем, он достойно, отвержения молча проживал, только сердце билось беспокойно - его случай странный поджидал. К ним пришла учитель черноока о культуре речь свою вести, и была она так одинока ... он ее тогда решил спасти. Каждый день вещала она скромно, каждый день тихонько уходя, улыбалась лишь она истомно, всякий раз на пару приходя. И он стал на парах с ней общаться, и вопросы чаще задавать, и в журнале сам стал отмечаться, и всю боль былую забывать. И однажды он ее дождался, и вопросом он остановил, до ладошки он ее добрался, розу ей в тот день он подарил. Расцвела тогда она в улыбке, отвечав "спасибо" за цветок, этот мост симпатий страшно зыбкий в тот же день свой первый дал росток. А потом ее пришли вновь пары, а потом не стало вновь забот, чувств всех прошлых кончились кошмары - им любви дарован был весь год. Провожал ее он после лекций, и она теперь его ждала, - это было чувство без эрекций, да она и, впрочем, не дала. Видно было, что ее тревожит этот разный статус их существ ... ей в любви Спаситель пусть поможет, и не будет с ней нисколько черств. Год прошел - они затем расстались - так господь, видать, благоволил, пусть ему студентки не достались - но он ей надежду подарил.
Год прошел, за ним прошли другие, и пришла пора писать диплом, времена то были золотые ... но баллада, впрочем, не о том. Вся баллада наша о тех людях, тех разумных мира существах, коих жизнь однажды всех разбудит, не стесняясь в всяческих средствах. И не знаем мы своих героев, и не знаем, живы ли они, их найти мы можем средь помоев, но внутри они давно цари. Лишь отбросив сон свой скоротечный сможем мы разумно дальше жить, сказ о жизни вечно бесконечный ... но балладу жаждем завершить. Сколько можно, право, в самом деле, нам писать Спасителе о том, ведь иные светочи поспели ... но оставим их мы на потом.
Вот мораль, примите ее скромно, ведь проста она как дважды два : коль вокруг тебя извечно темно, свет в себе зажечь сумей сперва !
Баллада о Темном Спасителе
Далеко, в неблизком грешном мире, средь простых батраков на селе, следуя моей беспечной лире был рожден герой наш во хлеве. Он не знал тогда о своей доле, он не знал еще, сколь будет дважды два, но зато он был уже на воле, выбравшись из матери едва. Раз вздохнул, другой вздохнул и третий - до чего же здорово дышать … он рожден, спаситель на планете, мать не будет больше муж сношать ! Пискнул раз, другой разок и третий, чтобы не забыли про него - что ни говори, а все же дети - это счастье дома твоего. Был поднят и унесен далеко, и умыты руки от крови, и семь лет до наступленья срока он был чистым, черт его дери !
Был он скромным и прилежным крохой всем своим товарищам назло, и не ведал он, что значит плохо - но в семь лет ему не повезло.
Подошел он слишком близко к стойлу, хотя б лучше уж не подходил, потому как полный смрадну пойлу выскочил оттуда брат-дебил. Он, видать, считал себя героем, возомнил он рыцарем себя, и, увлекшись сим достойным боем, шлепнул брата ломом втихаря. Было странно - скользко, грязно, сыро, закружился в чудных красках целый мир, и замолкла бы на этом глупа лира - но, друзья, герой наш не почил. Он не знал, прошел ли год, иль вечер, он не ведал, тепл он иль остыл - но познать тогда сумел он, что он вечен, и что брат его - законченный дебил. Он познал, что движет этим миром, он увидел мертвого себя, царств Аида наслаждаясь пиром и в себя тихонько приходя. Видел он, как люди умирают, видел он порочной жизни круг - с той поры, насколько его знают, стала смерть ему как самый верный друг.
Временами было все хреново, и в беспамятстве часами он лежал, а когда сознанье было снова - он вопросом смерти мозг сношал. Он вопрос, шекспировский тот самый, Гамлетовский вечный тот вопрос поднимал с утра пред слезной мамой, и иную чушь порою нес.
Прошел год, а может прошло десять - всем бессмертным время не удел, на вопрос тот так и не ответив, он немножко даже поседел. День пришел, он встал с полночной койки, вскрыл отмычкой бренный саркофаг, и из морга, словно как с попойки, он вперед направил свой нетленный шаг. Было странно это - люди в диком страхе разбегались прямо перед ним. "А ! Спасите ! Зомби, вурдалаки !", - так стандартно каждый уж вопил.
Он сперва не понял, в чем же смысл, и зачем кого-то он схватил, и зачем тот землю всю описал, пока кровь его из горла он все пил. Лишь затем, взглянув на свои руки, полные превсяческих кишок, осознал он смерти чужой муки - то громадный, был, поверьте, шок. Кем он стал - убийцей, вурдалаком, зверем, что не ведал, что творил ? Вытер слезы он тогда костистой лапой - ведь, выходит, брат его убил. Ведь выходит, он давно уж помер … может быть, что помер даже брат, чем же он старуху смерть то донял, чем же он пред нею виноват ? Он желал воскреснуть - но не мертвым ! Да, желал он вечно в мире жить - но закон бессмертия тот чертов, черт возьми, так сложно одурить ! Он упал и землю скреб ногтями, он кричал - и в крике проклинал лишь попа, что в храме со свечами его дух, увы, не отпевал. Вот отпел бы - было б все покойно, не воскрес б он, чтобы снова жить, и чего тогда работа их достойна, если так все можно запустить ? Он лежал - спокойно, без движений, и чужая кровь в жилах текла - у него не будет с жизнью прений, коли смерть его так сберегла.
* * *
Прошел день - он был довольно бурный, если бурным можно бы назвать то, как новый лик он свой гламурный все в реке пытался отмывать. Вы на вид ему бы дали сорок, ну а может даже сорок два, если б сквозь волос истлевших ворох показалась лысина б сперва. Если бы не три прогнивших зуба, если бы не впавший правый глаз, если бы не ребра, что друг в друга упирались до сих пор сейчас. Если бы не запах мертвечины, если б не огнем горящий взор, если бы не слизь и желатины - он б на тридцать даже бы попер. Что поделать, сложно крайне дело отмывать всю харю от грязи, коли с попом Васей из Пострела у тебя контракт не на мази.
День прошел, и солнце перестало в тот кусок земли уже светить, и луна Спасителя застала думающим, как же дальше жить. Так выходит, что он стал бессмертным, близкого рукою убиен, но, воскреснув, оказался первым неживым - и жизнью взят был в плен. Кем он стал и что за сила дышит в каждом хрусте косточек его, может бог земли его услышит и возьмет назад как своего ? Может он сумеет отказаться этой новой жизни от проблем, коли вновь сумеет с ней расстаться с помощью каких-нибудь бы стен ? Может он сумеет уничтожить странного немытого себя ? Знает он, что это не поможет - воскресил его господь, любя.
Воскрешенье - это, право, сила, и не нам, друзья, ее понять - тех давно всех ждет уже могила кому лет за сто – сто двадцать пять. Воскрешен - и тем же уничтожен, уничтожен - тем и воскрешен, что за чертов смысл в том заложен, что за черт в том смысле отражен ? Он уснул, наш будущий Спаситель, он проспал каких-то тридцать лет, и вернулся в мира вновь обитель из далеких призрачных тенет. Вновь раскинув праведные руки, вновь с укором миру на лице, он лежал и землю скреб от скуки, об ином мечтая о конце. Но конец, увы, его не близок, как не близки прочие концы - коли мир настолько жив и низок, в нем рождаться будут мертвецы. Он заснул, и снилось ему небо - чистое, стерильное, как шприц, и ему с небес подали хлеба - но не видел, впрочем, тех он лиц.
* * *
День настал - он вышел из ночлега, и из ветки сделал себе трость, и как будто просто ради стеба к ней берцову он приделал кость. Отодрал куски он сгнившей плоти и избавил тело от червей, чтобы в духа новом сем оплоте он нашел б гармонию скорей.
И он шел неведомо куда-то, он хотел неведомо чего, - когда в жизни все так хренова-то, сделаешь ты, друг, и не того. Разбегались перед ним все звери, разлетались птицы в небе все, ну а кровь глупцов, что не поспели, растворялась в утренней росе. И он шел по лесу меж селами, он хотел придти к себе домой, чтобы сообщить родимой маме, что он здесь по-прежнему живой. И к ночи добрел он до кургана - до кургана мертвого села, жителей которого так рьяно смерть к себе недавно позвала. Были там надгробья и могилы, не было там жизни и забот ... и его расти вдруг стали силы, - слышит он, что мать его зовет. Он не знал, зачем остановился, он не знал, зачем он стал копать, прошел час, и он вдруг убедился - перед ним его лежала мать. Умерла она, похоже, лишь недавно, не успев всю плоть отдать земле, в детстве видел мертвых он исправно - здесь же стало вдруг не по себе. Он отмел сырые комья глины, прошептал какие-то слова, крайне скорбные поделал рожей мины, и поплакал даже он едва. Он шептал "Ма..ма..мама...Мария ! Кто, когда, зачем и почему? Ты зачем родила меня Вием, одного, Мария, не пойму !". Он ревел, и слезы протекали медленно сквозь высохший костяк ... для чего с семьей они ругались, и зачем - ужель за просто так ? Час прошел, а он не шелохнулся, хладный труп по-прежнему держал ... час прошел - и труп вдруг шевельнулся, а потом отчаянно заржал.


![Тимонг Лайтбрингер - Записки недопросветленного [поэзия]](/uploads/posts/books/165281/165281.jpg)