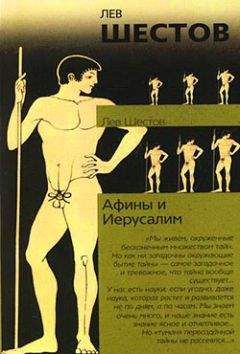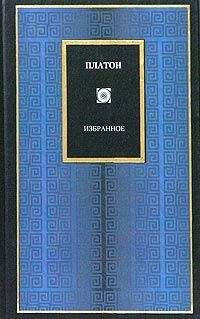Афины и Иерусалим - Шестов Лев Исаакович
XIV
Богу приходится идти в науку и искать поддержки у Сократа, истина которого стала принципом философии для всех будущих времен! Все lugere et detestari самого Бога беспощадно разбиваются о его «неизменность», как у Киркегарда его lugere et detestari разбивались о неизменные законы бытия, в которое он погружен был самым своим появлением на свет.
И Богу ничего не остается, как с душевным спокойствием сносить удачи и неудачи, и Он через tertium genus cognitionis неизбежно приходит к убеждению, что блаженство не есть proemimum virtutis, sed ipsa virtus. По Сократу, добродетельный человек будет блаженствовать и в фаларийском быке, по Киркегарду, «христианство» тоже не дает откровений об новой истине, а приносит лишь назидание, о котором, как и о назидании, принесенном Сократом, приходится сказать, что на человеческую оценку оно хуже всякой беды, какая только может с нами приключиться. Лютер говорил о Боге, что он есть всемогущий Бог, творящий все из ничего. Для Киркегарда – воля Бога так же парализована его неизменностью, как и воля человека необходимостью, – и даже в еще большей мере. Пред лицом своего изнемогающего на кресте возлюбленного сына он испытывает тот же ужас от своей беспомощности, какой испытывает и сам Киркегард пред лицом замученной им Регины Ольсен: чувствует, что нужно бежать, нужно двигаться, нужно что-то делать, и в то же время сознает, что он весь во власти «категорий своего мышления» и не может пошевелить ни одним членом. Лютер, мы знаем, тоже говорил о servo arbitrio. Но его порабощенная воля относилась к человеку. У Киркегарда, как у Сократа и Спинозы, de servo arbitrio распространяется и на самого Бога. У него был момент, когда он решился броситься за спасением к Абсурду. В силу Абсурда, говорит он нам. Бог может решиться на Suspension des Ethischen и возвратить Аврааму Исаака, Бог может воскресить убитого и т. д., т. е. прорваться через свою неизменность. Но даже и тогда, когда он так вдохновенно возвещал о том, что для Бога нет ничего невозможного, он не мог отвязаться от мысли, что «в мире духа» все же есть, должен быть какой-то свой порядок – не тот, который мы наблюдаем здесь, на земле, – но все же строгий, точный и определенный, извечный порядок: там солнце не всходит равно над грешниками и над праведниками, там сыт только тот, кто работает и т. д. Соответственно этому и вера Авраама, несмотря на все, что Киркегард говорил, вовсе не была отменой «этического». Наоборот – вера Авраама, в последнем счете, оказалась только исполнением требований этического. Иначе говоря: в Аврааме Киркегард усматривал, вопреки всему что он говорил, не свободное бесстрашие человека, за которым стоит всемогущий Бог, – Авраам был для него, выражаясь его языком, только «рыцарем резиньяции», как и Бог, оставивший своего сына, был тоже только рыцарем резиньяции. В вере Авраама он видит не дар Бога, а его собственную заслугу. Человек обязан верить, несчетное количество раз повторяет он, и тот, кто эту обязанность выполняет, тот «работает» и своей работой приобрёл тает право на блага, уготовленные праведникам в царстве духа, где солнце светит только «праведникам». Праведность же, как и вера, состоит в том, чтобы жить в тех же категориях, в каких мы мыслим. Бог должен быть неизменным – и он жертвует своим сыном. Авраам должен повиноваться Богу – и он заносит нож над Исааком. Жизнь духа начинается за чертой «ты должен», от которого Бог так же мало свободен, как и человек. Откуда взял эту истину Киркегард? В Библии Бог вовсе и не представляется неизменным, и в Библии «отец веры» не всегда повинуется Богу. Когда Бог, разгневавшись на людей, решил послать на землю потоп, праведник Ной точно не спорил с ним и послушно заполз в свой ковчег, довольный тем, что ему удалось спасти жизнь себе и своим близким. Но Авраам препирался с Богом по поводу Содома и Гоморры, и Бог, забыв про свою неизменность, уступил своему «рабу». Очевидно, что библейская «вера» ничего общего с повиновением не имеет и что всякое «ты должен» лежит в областях, куда лучи веры не доходят. Сам Киркегард в «Krankheit zum Tode» пишет по поводу загадочных слов ап. Павла: «Все, что не от веры, есть грех» (Рим. XIV, 23): «Это принадлежит к решительнейшим определениям христианства, что противуположностью греху является не добродетель, а вера» (стр. 80). И это он повторяет в той же книге несколько раз. А в «Begriff der Angst» (стр. 106) он говорит: «противуположностью свободы является вина». Но если это так, если противуположностью греху и вине является вера и свобода, то не свидетельствуют ли все размышления Киркегарда о царствующих в области духа порядках и законах лишь о том, что у человека нет ни веры, ни свободы, а только вина и бессильная добродетель.
И что Киркегард почерпал свое христианское назидание не у Абсурда, который он так прославлял, и не в Св. Писании, которое считал откровением истины, а в том «знании», которое нам принес мудрейший из людей, решившийся вкусить от плодов запретного дерева. В «Begriff der Angst» Киркегард уверенно заявляет по поводу первого человека (5, 36): «невинность есть неведение. В невинности человек определяется не духовно, а душевно, в непосредственном единении с его природностью. Дух в человеке еще дремлет. Такое понимание находится в полном согласии с Библией, которая отрицает за человеком в состоянии невинности знание разницы между добром и злом». Библия действительно отрицает за человеком в состоянии невинности знание различия между добром и злом. Но это было не слабостью, не недостатком, а силой и великим преимуществом его. Человек, каким он вышел из рук Творца, не знал и стыда, и в этом тоже было его великое преимущество. Знание добра и зла, как и чувство стыда, пришло лишь после того, как он отведал плодов запретного дерева. Это для нашего разума непостижимо, как непостижимо, что от плодов с дерева познания могла прийти смерть. И мы «жадно стремимся», опираясь на непогрешимость своего разума, утверждать, что в человеке, не знающем различий между добром и злом, дух еще дремлет. Но в Библии этого нет. В Библии сказано противуположное – что все беды человеческие произошли от знания. В этом и смысл приводимых Киркегардом слов апостола Павла – все, что не от веры, есть грех. Знание, по Библии, по самому существу своему исключающее веру, и есть грех κάτ’εξοχήν (по существу), или первородный грех. В противуположность Киркегарду нужно сказать, что именно плоды с дерева познания усыпили человеческий дух. Оттого только Бог и запретил Адаму есть их. Слова, обращенные Богом к Адаму: «а от дерева познания добра и зла не ешь от него; потому что в день, в который вкусишь от него, умрешь», – совершенно не ладятся с нашими представлениями ни о познании, ни о добре и зле, но смысл их совершенно ясен и не допускает никакого толкования. В них, и только в них, скажу еще раз, один раз на всю историю человечества прозвучало то, что заслуживает названия критики чистого разума. Бог определенно сказал первому человеку: не доверяй плодам с дерева познания, они несут с собой величайшую опасность. Но Адам, как впоследствии Гегель, противупоставил «недоверие недоверию».
И, когда змей стал убеждать его, что плоды эти есть можно, что, вкусивши от них, люди станут, как боги, первый человек и его жена поддались искушению. Так рассказывается в книге Бытия. Так понимает библейское повествование ап. Павел, так понимал его и Лютер. Ап. Павел говорит, что, когда Авраам пошел в обетованную землю, он пошел, сам не зная куда идет.
Это значит, что в обетованную землю может прийти лишь тот, кому уже можно не считаться со знанием, кто от знания и его истин свободен: куда он придет, там будет обетованная земля. Змей сказал первому человеку: будете, как боги, знающие добро и зло. Но Бог не знает добра и зла. Бог ничего не «знает», Бог все творит. И Адам до грехопадения был причастен божественному всемогуществу и только после падения попал под власть знания – и в тот момент утратил драгоценнейший дар Бога, свободу. Ибо свобода не в возможности выбора между добром и злом, как мы обречены теперь думать. Свобода есть сила и власть не допускать зло в мир. Бог, свободнейшее существо, не выбирает между добром и злом. И созданный им человек тоже не выбирал, ибо выбирать не из чего было: в раю не было зла. И только когда по внушению враждебной и непонятной нам силы первый человек протянул руку к запретному дереву, дух его обессилел, и он превратился в то слабое, немощное, подвластное чуждым ему началам существо, каким он нам сейчас представляется. Таков смысл «грехопадения» по Библии. Нам это представляется столь фантастическим, что даже люди, считавшие Библию боговдохновенной книгой, всегда старались так или иначе перетолковать сказание книги Бытия. И Киркегард, как видим, не составляет исключения. По его мнению, от грехопадения человек пробудился к знанию добра и зла. Но если бы было так, то какое же это было бы грехопадение? Тогда надо было бы признать, что не змей обманывал человека, а Бог, как признавал Гегель. Киркегард на это не решается открыто пойти, но фактически его толкование грехопадения сводится именно к этому. Он заявляет: «скажу прямо, что я не могу связать со змеем никакой определенной мысли. Помимо всего, змей приводит к той трудности, что искушение приходит извне» (Begriff der Angst, 42). Бесспорно, что, согласно Библии, искушение пришло извне. И тоже бесспорно, что нашему разуму, и еще в большей степени нашей морали, такое допущение представляется чудовищным. Но ведь сам Киркегард взывал к Абсурду, и он же вдохновенно говорит о Suspension des Ethischen. Отчего же перед лицом наиболее загадочного из всего того, о чем нам повествует Библия, Киркегард вновь возвращается и к разуму, и к морали? Откуда пришло к нему это «искушение»? Изнутри или извне? И не есть ли это что-то большее и неизмеримо более страшное, чем искушение? Киркегард не может связать со змеем никакой определенной мысли. Но ведь он же сам говорил нам о тех ужасах, которые испытывает человек, когда чувствует, что ему нужно бежать со всей возможной быстротой, но что какая-то сила парализовала его и он не может пошевелить ни одним членом.