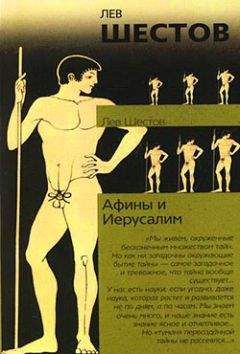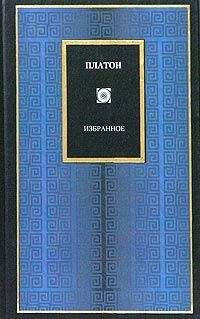Афины и Иерусалим - Шестов Лев Исаакович
И тот, кто руководится опытом и только опытом, разрешает себе и плакать и проклинать, когда ему открывается, что какая-то невидимая сила похитила у него самое драгоценное его сокровище – его свободу. Но тому, кто руководится одним разумом, тому строжайше возбраняется и плакать и проклинать, тот должен только «понимать». Иначе говоря, у того отнимаются последние остатки, может, даже не остатки, а воспоминание (платоновский ἀνάμνησις – воспоминание) или, если хотите, идея свободы. Разум приводит с собой третий род познания – интуитивное познание, т. е. познание, которое собственной властью, неизвестно откуда ему доставшейся, превращает чисто эмпирическое суждение, констатирование факта в суждение всеобщее и необходимое: иными словами, делает «действительное» окончательно и навсегда неизменным, закрепляет его in saecula saeculorum.
Откуда пришла к разуму эта страшная власть? Каким колдовством добивается он того, что действительное становится необходимым? Я не думаю, что хоть у одного философа вы можете найти ответ на этот вопрос. Но я твердо знаю, что люди делают все от них зависящее, чтоб этот вопрос обойти. Спиноза, хотевший мыслить more geometrico, не останавливается пред тем, чтоб защищать разумное познание чисто «теологическими» аргументами. Он не только называет разум melior pars nostra, он его называет lux divina и даже не побоялся, когда нужно было, произнести фразу, которой место скорей в катехизисе, чем в философском трактате, – я уже приводил ее – «quam aram sibi parare potest qui rationis majestatem laedit». У Спинозы, правда, другого выхода не было: там, где человек узнает, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым, ничего нельзя узнать о том, что у нас никогда не было и никогда не будет свободы воли или что нам возбраняется плакать и проклинать, когда мы убеждаемся, что у нас нет свободы воли. И тоже ничего нельзя узнать о том, что нашему плачу и нашим проклятиям, нашему ужасу и нашему отчаянию никогда не дано опрокинуть и взорвать приносимую знанием philosophiam veram и вернуть утерянную свободу. Но раз так, то и спинозовское положение, что «philosophiae. enim scopus nihil est praeter veritatem, fidei autem nihil praeter oboediemiam et pietatem» (единственная цель философии есть истина, цель же веры исключительно послушание и набожность), о котором у нас уже шла речь, положение, кажущееся столь бесспорным и так своей бесспорностью покорявшее людей, оказывается лживым и опасным самовнушением. Философия, и именно та философия, которая получила наиболее полное и законченное выражение в творениях Спинозы с венчающими ее intelligere и tertium genus cognitionis, менее всего озабочена истиной и ищет только послушание и набожность, которые она, очевидно затем, чтоб снять с себя самой всякие подозрения, навязывала вере. И дальше – тут мы опять подходим к Лютеру – Спиноза утверждает, что Бог Св. Писания отнюдь не хотел научить людей познать свои абсолютные атрибуты, а стремился лишь сломить их упорство и закоренелую волю, почему и прибегал не к доводам, а к трубным звукам, громам и молниям. Но раз доводы, которым вверился Спиноза, привели его к убеждению, что все в мире происходит в силу необходимости, обрекающей человека на участь презренного животного, умирающего с голоду между двумя вязанками сена, – не указывает ли это на то, что «доводы», парализуя волю человека, менее всего ведут человека к истине? Что они не пробуждают, а усыпляют и без того сонную мысль нашу? И что если Бог прибегнул к трубным звукам, громам и молниям – то лишь потому, что иначе нельзя было вернуть оцепеневшей в летаргии, полумертвой человеческой душе ее истинную свободу – т. е. разрешить ее от повиновения, вынести ее за пределы благочестия, в которые ее загнал разум, и, таким образом, приобщить к истине? Слово Божье – молот, сокрушающий скалы, повторяет Лютер пророка, и только такое «слово» может разбить твердыни, за которыми окопался разум. И в этом лишь смысл молота Божьего и его назначение, чтоб эти твердыни разбить. Твердыни же не что иное, как то «удовлетворение самим собой» и та «добродетель», которая не ждет и не требует себе никакой награды, ибо сама есть высшая награда, высшее благо, или блаженство, возвещенные нам Сократом в его первом и в его втором воплощении. Громы пророков, апостолов и самого Лютера направлены на алтари, воздвигнутые человеческой мудростью. «Quia homo superbit et somniat se sapere, se justum et sanctum esse, ideo opus est, ut lege humilietur, ut sic bestia ista; opinio justitae, occidatur, qua non occisa non potest homo vivere». (Так как человека обуяла гордыня, и он воображает, что он знает, что он праведен, что он свят, то необходимо, чтоб закон его смирил, чтоб таким образом этот дикий зверь, уверенность в своей справедливости, был убит в нем, ибо, пока он не убит, человек не может жить.) Во всех своих писаниях Лютер только и говорит, что о молоте Бога, разбивающем доверие человека к его знанию и к праведности, держащейся на приносимых знанием истинах. Через страницу он повторяет с еще большей силой и страстью: «Oportet igitur Deum habere malleum fortem ad conterendas petras et ignem in medio coeli ardentem ad subvertendos montes hoc est ad comprimendam istam pertinacem et obstipam bestiaffl, praesumptionem, ut ista contusione homo in nihilum redactus desperet de suis viribus, justitia et operibus». (Необходимо поэтому Господу иметь сильный молот для сокрушения скал и пылающий огонь, чтобы сдвигать горы, то есть чтобы усмирить то упорное, упрямое животное – заносчивость, чтобы раздробленный в ничто человек отчаялся в своих силах, справедливости и делах.) Если перевести Лютера на язык Спинозы – придется сказать: non intelligere, sed lugere et detestari (не понимать, но плакать и ненавидеть). Иными словами: утративший свободу человек, человек, превратившийся из res cogitans в asinus turpissimus, убедившись на своем опыте, к какой пропасти ведет его тот божественный свет, о котором нам столько говорили мудрецы, начинает делать бессмысленные, прямо безумные попытки борьбы с заворожившей его силой. Согласие с самим собой и связанное с ним блаженство, равно как и та добродетель, которая в самой себе находит высшую награду, все эти «утешения», которые несут с собой плоды с дерева познания, если пользоваться образом Св. Писания, или разум, все черпающий из самого себя, если держаться философского языка Гегеля, – вдруг обнажаются пред ним в своей истинной сущности: все это несет с собой не вечное спасение, а вечную гибель. И первым ответом является запрещенное философами – lugere et detestari, свидетельствующие прежде всего о том, что какие-то остатки жизни сохранились в человеке. Он сам начинает призывать на себя страшный молот Божий, он радостно приветствует и громы небесные, и молнии, и трубные звуки. Ведь только небесные громы, низвергающие скалы и разрушающие горы могут разбить «это упорное, закоренелое животное – заносчивость», которая, овладевши душой человека, довела его до того, что он aequo animo готов выносить все, что ему пошлет судьба, и еще в этой своей способности принимать все, что посылает судьба, научается находить свое высшее благо.
Там, где Сократ, в своем первом и в своем втором воплощении, видел спасение человека, там Лютер увидел гибель его. Понимание, а вместе с тем третий род познания, отдает человека в руки его злейшего и непримиримейшего врага. Для того, кто руководим одним разумом, раз утраченная свобода утрачена навсегда, и все, что у него осталось, – это научить себя и других видеть в неизбежном – лучшее. Нужно считать себя блаженным в фаларийском быке, нужно спокойно умирать с голоду между двумя вязанками сена в сознании, что в мире царствует закон, от которого уйти никому не дано. Разум жадно стремится ко всеобщим и необходимым истинам, люди должны в разуме видеть их «лучшую часть» и, во всем подчиняясь ему, искать и обретать свое благо в тех же всеобщих и необходимых истинах. Если в равном расстоянии от человека его будут манить к себе идея Бога и идея бессмертия, человек не повернется к ним: он не может свободно решать, он знает, что его решения не в его власти, и пойдет туда, куда его ведет необходимость, приученный aequo animo ferre et expectare utramque faciem всевластной судьбы. Все docet философии, тоже против человеческой воли превратившиеся из искания истины в назидание, неизбежно ведут нас к этому.