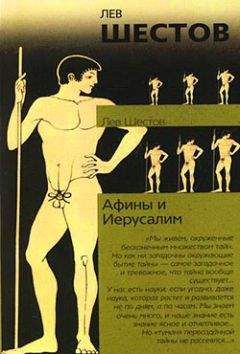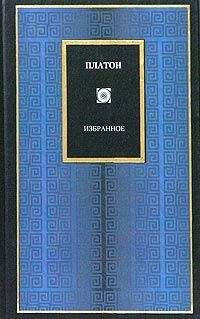Афины и Иерусалим - Шестов Лев Исаакович
И, стало быть, от кошмара действительности нет и не может быть спасения, философ принужден принять действительность, как ее принимают все, пред действительностью философ так же беспомощен, как и обыкновенный человек; единственное, что может, а потому и должна сделать философия, – это научить людей, как им жить в этой кошмарной действительности, от которой проснуться уже некуда. Это значит: задача философии – не истина, а назидание, иначе говоря: не плоды с дерева жизни, а плоды с дерева познания добра и зла. Так понимал в древности задачу философии Сократ, так же думал в новое время Спиноза. Мы достаточно уже слышали об этом от Сократа – послушаем теперь Спинозу, который доскажет нам то, о чем начал говорить Сократ. Главная задача Спинозы состояла в том, чтоб выкорчевать из души человека старое представление о Боге. Пока оно держится, мы живем не в свете правды, а в тьме лжи. Все предрассудки, пишет Спиноза, «pendent ab hoc uno, quod scilicet communiter supponant homines, omnes res naturales, ut ipsos propter finem agere, imo ipsum Deum omnia ad sertum aliquem finem dirigere, pro certum statuant: dicunt enim, Deum omnia propter hominem fecisse, hominem autem, ut ipsum coleret» (Eth. I, Арр. – все предрассудки зависят от одного, именно от того, что люди вообще принимают, что все вещи в природе действуют, как они, с известной целью, и утверждают с уверенностью, что сам Бог все направляет к определенной какой-то цели: говорят же они, что Бог все сделал для человека, а человека для того, чтобы ему поклоняться). Все предрассудки имеют своим источником убеждение, что Бог ставит себе цели и задачи. На самом деле «Deus… agendi principium, vel finem, habet nullum» (Eth. IV, Praefacio – Бог не руководится никаким принципом в своих действиях и не ставит себе никаких целей). Когда слышишь такое, первым делом возникает вопрос: прав ли Спиноза или не прав, точно ли люди, которые полагают, что Бог ставит себе некие цели и задачи, знают истину, а те, которые полагают, что Богу всякие цели и задачи чужды, истины не знают, или наоборот. Таков, говорю, первый вопрос, как бы сам собой или естественно у нас возникающий. Но, по-видимому, в связи с тем, что мы уже от Спинозы слышали, до этого вопроса нужно поставить другой вопрос: свободен ли человек выбирать тот или иной ответ, когда речь идет о том, что Бог ставит или не ставит себе цели, или ответ вперед дан готовым, прежде еще чем человек начинает спрашивать, даже прежде чем спрашивающий человек выпадает из небытия в бытие? Мы понимаем, что Спиноза нам открыто признался, что он не волен писать или не писать. Волен ли он выбирать между тем или иным решением представшего пред ним вопроса? Через сто лет после Спинозы Кант попал в ту же западню. Метафизика, заявил он, должна решить, бессмертна ли душа, свободна ли воля. Но если воля не свободна или если свобода воли находится под сомнением (это, по существу, одно и то же), то человеку не надо выбирать, когда речь идет о Боге и бессмертии души. Что-то за него и без него решило и про Бога, и про бессмертие: хочет он или не хочет, он вперед обречен принять то, что ему будет преподнесено.
VI
Обычно вопрос о свободе воли связывали с вопросами этики. Но, как уже отчасти видно из сказанного в последней главе, он гораздо теснее связан с проблемой познания. Точнее, свобода воли, с одной стороны, и наши идеи о добре и зле, с другой стороны, так срослись с нашим представлением о сущности познания, что попытки трактовать эти проблемы вне их взаимной связи неизбежно ведут к односторонним или даже ложным выводам. Когда Лейбниц с уверенностью утверждал, что человек, у которого связаны руки, все же может быть свободным, его уверенность имела своим основным убеждением, что знанию дано ответить на вопрос, свободна ли наша воля, и что ответ, который нам знание принесет, мы должны будем принять как последний и окончательный, не подлежащий пересмотру в какой-либо высшей инстанции. Таково же было убеждение и Спинозы. Но «знание» подсказало Спинозе совсем не то, что Лейбницу. Лейбниц «узнал», что наша воля свободна. Спиноза – что не свободна. Знаменитый спор между Эразмом Роттердамским и Лютером сводится к тому же. Эразм написал «Diatribae de libero arbitrio» (Рассуждение о свободной воле), Лютер ответил ему своим «De servo arbitrio» (О порабощенной воле). И, если мы спросим себя, как случилось, что Эразм и Лейбниц «узнали», что воля свободна, а Спиноза и Лютер, что воля несвободна, мы попадем в очень трудное положение, из которого обычным способом, т. е. проверкой представляемых ими аргументов, никогда не выбраться. Несомненно, что обе спорящих стороны равно добросовестны, т. е. правдиво свидетельствуют о своем внутреннем опыте. Но как узнать, какой опыт свидетельствует об истине? Вопрос еще больше усложняется, если припомнить, что не только разные люди, но один и тот же человек то чувствует себя свободным, то чувствует себя несвободным. Пример – тот же Спиноза: когда он был помоложе, он утверждал свободу воли, а когда стал старше – отрицал. La liberté est un mystère, [42] сказал Мальбранш, и, как все, что носит на себе печать тайны, свобода заключает в себе внутреннее противоречие, попытки избавиться от которого всегда кончаются одним и тем же: избавляются не от противоречия, а от поставленной проблемы. И Спинозе ли нужно это ставить на вид? Осел, поставленный между равно отстоящими от него вязанками сена, говорит он, умрет с голоду, но не повернется ни к одной из них, если его не толкнет посторонняя сила. И человек в таком же положении: он пойдет навстречу своей гибели, будет знать, что его ждет гибель, но даже сознание величайшей опасности не пробудит его от той летаргии, на которую он осужден существующим от века и навеки неизменным ordo et connexio rerum (порядок и связь вещей), – подобно тому, как завороженная очковой змеей птица с ужасом и отчаянием сама бросается в пасть чудовища. Если перевести мысль Спинозы на более простой язык, то смысл его рассуждений окажется по существу тождественным с тем, что Лютер говорил Эразму: по природе своей человек свободен, но свобода его кем-то или чем-то парализована. Отсюда и загадочное – столь тяжкое и мучительное противоречие: человек, который больше всего в мире дорожит свободой, чувствует, что свобода у него отнята, и не видит никакой возможности вернуть ее. Все, что он делает, все, что он предпринимает, не только не освобождает, а еще больше закрепощает его. Он и движется, и пишет, и размышляет, и всячески совершенствуется, но чем больше он напрягается, чем больше он совершенствуется и размышляет, тем больше он убеждается в своей полной неспособности хоть что-нибудь изменить собственными силами и по своему почину в условиях своего существования. И больше всего парализует и ослабляет его волю мысль, т. е. как раз то, с чем люди обыкновенно связывали все свои надежды на освобождение. Пока он не «мыслил», он полагал, что Deum ad certum finem aliquem omnia dirigere (Бог все ведет к определенной цели). Но начал думать и вдруг убедился, что это предрассудок, заблуждение, порожденное той свободной волей, которой он так страстно жаждет и которая, быть может, некогда и обладала властью превращать наши желания в реальность, но сейчас, расслабленная и беспомощная, может только терзать человека, напоминая ему о канувшем навеки в ничто прошлом. Когда она еще была самой собой, она внушила человеку убеждение, что в мире осуществляются высокие и значительные цели, что есть хорошее, дурное, прекрасное, безобразное и т. д. Но «знание» обезоружило волю и лишило его права решающего голоса, когда речь идет об истине и бытии. Бог не ставит себе никакой цели – воля и разум Бога имеет столько же общего с волей и разумом человека, сколько созвездие Пса с псом, лающим животным. Обратим наши взоры на идеальное знание – математику, и мы узнаем, где находят истину и как ее находят. Мы убедимся тогда, что истина сама по себе, а «лучшее» само по себе. Для Бога нет лучшего, и те, которые statuunt, Deum omnia sub ratione boni agere, [43] находятся еще в большем заблуждении, чем те, которые полагают, что ab ipsius (Dei) beneplacito omnia pendere (все зависит от Божьего произвола). Над всем царствует необходимость, Deum non operari ex libertate voluntatis (Бог не действует по свободному соизволению). Спиноза не устает повторять нам, что необходимость есть сущность и основа бытия: «Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productae sunt» (Eth. I, 33. – Вещи не могли никаким иным способом и ни в каком ином порядке быть созданы Богом, чем они были созданы). Для него sub specie aeternitatis равнозначаще sub specie necessitatis. Вряд ли во всей истории мысли мы найдем еще одного философа, который с такой настойчивостью и страстью развивал мысль о всевластии необходимости. И он заверяет нас притом, что «доказал» свои положения luce meridiana clarius (яснее полуденного света). Что он выразил luce meridiana clarius овладевшее человеческим духом убеждение – спора быть не может, но разве это может сойти за доказательство? Когда он, с одной стороны, утверждает, что Deus ex solis suae naturae legibus et a nemine coactus agit (Eth. I, 17. – Бог действует только по законам своей природы и никем не принуждаемый), а с другой стороны, негодует против тех, кто допускает, что Бог может действовать sub ratione boni, естественно возникает вопрос: откуда мог он узнать, что это sub ratione boni не есть один и, быть может, высший из leges suae (Dei) naturae? Добро бы Спиноза утверждал, что Бог вне или по ту сторону всяких законов, что он сам является источником или творцом законов. Но такое допущение дальше всего от Спинозы. От чего угодно может отказаться человеческая мысль – но от идеи законопослушания она ни за что не освободит ни высшее, ни низшее бытие, ни творение, ни творца. Соответственно этому, хотя Спиноза и утверждает, что «si homines liberi nascerentur, nullum boni et mali formarent conceptum» (Eth. IV, 68 – если бы люди рождались свободными, они бы не создавали никакого понятия о добре и зле), но ему так же мало дано осуществить идеал человека, стоящего по ту сторону добра и зла, как и идеал свободы. Конец четвертой и вся пятая часть «Этики» свидетельствует об этом: человек, которого Спиноза называет свободным, – нисколько не свободен, и блаженство, приносимое философией миру, существует и держится исключительно на различении добра и зла. Если мы хотим разгадать смысл сократовского учения о том, что знание равняется добродетели и что с хорошим человеком не может приключиться ничего дурного, мы должны обратиться не к историкам, изобличающим поверхностность мудрейшего из людей, а к Спинозе, который через 2000 лет вновь решился принять на себя сократовскую проблематику. Даже ирония Сократа у него сохранилась – только скрытая под more geometrico (геометрический метод). И точно – разве математический метод не ирония в устах человека, утверждающего, что summum mentis bonum est Dei cognitio и что summa mentis virtus Deum cognoscere? (Высшее благо для души – познание Бога, и высшая добродетель для души – познание Бога.) Когда это математика интересовалась такими вещами, как summum bonum (высшее благо) или summa virtus (высшая добродетель)? И как случилось, что Бог, который обязался non agere sub ratione boni (не действовать в виду добра), все же summum bonum принес?