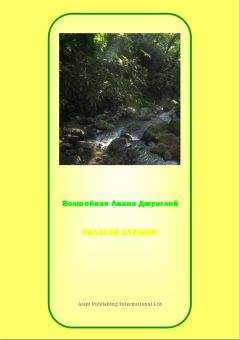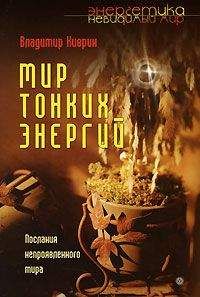Елена Кузнецова - Аяуаска, волшебная Лиана Джунглей: джатака о золотом кувшине в реке
Тут же мы сидели в лодке как в скорлупе грецкого ореха, а со всех сторон нас мягко обтекала вода. В этой шаткой и на первый (но только на первый) взгляд не очень надежной лодке все рядом — все можно потрогать и понюхать. И к воде можно прикоснуться, и на берег можно смотреть, как и положено, с почтением, снизу вверх.
Я вижу, что река месяц за месяцем, год за годом вымывает в нем землю, и обнаженные витиеватые корни деревьев проплывают сейчас в воздухе, прямо надо мной.
В вечернем воздухе обострились запахи деревьев и трав, и густой запах свежей земли опустился к нам в лодку.
А сама река, такая близкая и такая далекая, кажется наделенной разумом — только очень отличным от человеческого.
Мы сидим так низко в воде, что к нам по ошибке в лодку стремительно запрыгивают рыбки. Юноша поднимает со дна и показывает мне плоскую серебристую рыбку с неровными и острыми зубами: кончики ее зубов походят на стальные иголки. Предусмотрительно сжав ей по бокам рот, он засовывает мозолистый указательный палец ей в пасть. Продемонстрировав свое бесстрашие, выпускает ее за борт.
Весь путь от Пангваны пятой до Тамшияку занял всего минут сорок — но каких…
Зачарованная река, околдованные джунгли, вода, с мягким плеском ударяющаяся о борта лодки. В эти недолгие минуты заката река предстает в разительном контрасте с тем, как она являет себя днем. Днем она Золушка, а вечером — принцесса. Обычно из-за мельчайших частичек почвы, взвешенных в воде, Укаяли, Амазонка и Мараньон окрашены в коричневатый цвет. Сейчас от заходящего солнца остался небольшой светящийся оранжевый сегмент, и от него вся река засветилась чистым серебром, словно прощальные лучи солнца заковали ее в блеск расплавленной и сияющей амальгамы. В эти короткие минуты мне явилась сказочная принцесса: для этого только и требовалось, чтобы одинокий странник смиренно припал к ее стопам и затерялся у подножья ее берегов.
Потом сегмент заходящего солнца неумолимо сжимается в сияющую розовую точку, а вслед за этим и она, и оставшийся от нее свет окончательно растворяются в висящих над ними облаках.
Наступают тропические сумерки. Мы идем по центру реки, а у самого берега в воде плещутся дети и чуть подальше от берега, ближе к нашей лодке, расставлены сети — стоя по пояс в воде, мужчины выбирают оттуда заблудившуюся в неводе рыбу.
Я вначале особо не задумывалась о том, что река — место не вполне безопасное, хотя, вроде бы это и так понятно. Но деталями прониклась, когда на «Эдуардо VII» штурман мне сказал, что в этой коричневой толще воды много чего активно обитает. В том числе и пираньи, и крокодилы.
Сейчас, глядя на детей и мужчин, я невольно вспомнила и про хвост крокодила на базаре в Белене, и про пираньас. Их я видела в колоритных лавочках местных индейских сувениров в Пукальпе. Засушенные рыбки были водружены на лакированные деревянные подставочки и предлагались для продажи. Даже засушенные, они агрессивно ощеривали неприятно-зубастый рот. Подбрюшье у них было красное, словно им так и не удалось утаить кровь невинно загубленных жертв, и она предательски проступала наружу.
— Да, — печально подумала я, — ну и что из того, что плаваю хорошо? Если вдруг пойдем на дно (хотя с чего бы вдруг?), то непоседливые подводные обитатели уравняют шансы спастись для плавать умеющих и не умеющих.
Но от мысли о хищных обитателях речных пространств, затаившихся в непроницаемой толще коричневатой воды, меня отвлекли появившиеся в паре метров от лодки два дельфина. Я снова с изумлением увидела, что они действительно были розовые!
Мы явно привлекли их внимание, и они устроили для нас настоящее представление: блестя мокрыми боками, они синхронно выпрыгивали из воды и, взлетев в воздух, изгибались плавной дугой, прежде чем снова упасть и мягко врезаться в темную воду. А потом один из них вдруг завис в полете — в ореоле сверкающих и разлетающихся брызг, и тогда он — честное слово! — на мгновение посмотрел на меня, и мы встретилась с ним глазами, и тогда… тогда неумолимый бег времени замер.
В это мгновение я отчетливо увидела пограничную зону, в которой успела к этому времени успешно завязнуть и затеряться — она была заполнена сутолокой и мельтешением дней, но еще я увидела, что за пограничной зоной и за демаркационной линией был другой, отличный мир, и что он по своей сути — счастье и свобода, и что сейчас можно было сделать один последний шаг, чтобы войти в новый мир, в незримый рай.
И пока я проверяла свою готовность пересечь демаркационную линию, неведомый и безбрежный мир посылал мне в качества аванса это неземное состояние — беспредельной гармонии и безграничного покоя.
20. ВЕЧЕР, ГОРИЗОНТ И КРЕСЛО
Автор взял себе тайм-аут в своем рассказе и решил тут пока присеcть и посмотреть вдаль… на горизонт, на небо, а потом вообще на все, что разворачивается вокруг.
21. ВЕЧЕР В ТАМШИЯКУ
Переступив через низкий заборчик, установленный поверх порога — он удерживал внутри дома суперактивную двухлетнюю дочь курандеро, я зашла в дом Вилсона Баскеса. Малышка в этот момент как раз очень удачно, прямо как канцелярская скрепка, вертикально зацепилась за гамак локтями и, аккуратно поджав ноги, ритмично раскачивалась на нем в режиме заведенной механической игрушки. Очевидно, этот живой маятник был такой неотъемлемой частью окружающей его обстановки, что никак не отвлекал Вилсона от процесса лечения растянувшейся в кресле пациентки.
Я представилась, объяснила цель своего визита. Мы немного с ним поговорили, а потом Вилсон попросил подождать и вернулся к процессу целительства. Курандеро был крепкого телосложения и невысокого роста, даже немного ниже меня, хотя и я высоким ростом в родной стране никогда не отличалась. Его темно-коричневая кожа указывала как на яркое тропическое солнце, так и на генетическую близость к индейцам бассейна Амазонки. Несмотря на властные ноздри и резко очерченный подбородок, весь его вид вызывал какое-то подспудное ощущение, что он находился в каком-то отдалении от окружающего его мира, и лишь иногда приближался к нам, балансируя на грани двух миров.
Посреди комнаты неприкаянно стоял одинокий деревянный стул — его и предложили моему вниманию. Спинка у него была высокая и прямая, поэтому я чопорно угнездилась в него с чувством английской дамы, прибывшей на дружеский 5 o?clock tea, но готовой и подождать запаздывающий чай.
В это время к нему в дом заглянуло еще пару пациентов — все они были местные. В этом я лично для себя углядела несомненно положительный знак. Раз местные люди к нему тянутся — значит, доверяют.
Он вернулся к пациентке и лечение продолжилось. Затянувшись мапачо, он выдохнул дым сигареты ей в центр головы, туда, где находится чакра сахасрара, а потом запел икарос — песню, которой его научила аяуаска и без которой лечение (как говорят знающие люди, приобщенные к традиции) — не может быть эффективным. Под ритмичную песню он принялся методично постукивать ее по макушке веером. Веер был занятный. Почти круглый, из сухих листьев фисташкового цвета, с недлинной ручкой, как раз достаточной по длине, чтобы ее крепко обхватила небольшая рука Вилсона. Необычным веер казался из-за того, что был объемным. На нем были такие большие букли из сплетенных листьев, и все вместе это походило на симметрично приплюснутый шар. Позже оказалось, что не зря он с первой же минуты привлек к себе внимание: с ним мне довелось потом познакомиться — очень близко и в драматических обстоятельствах.
Церемония лечения женщины продолжалась долго, за дверями сгущались сумерки, а я сидела и ждала, когда он освободится. Временами казалось, что он так увлекся целительством и настолько глубоко погрузился в свое личное пространство, что напрочь забыл о моем присутствии. Даже когда он отходил от женщины и садился передохнуть на низкий табурет неподалеку, он по-прежнему молчал. Молчание у него получалось какое-то сосредоточенное и, я бы даже сказала, осмысленное. Может быть, это такой местный обычай, — думала я, — когда гость и хозяин просто сидят вместе и молчат? Я где-то про такое читала. Я попыталась вспомнить, где именно, но был уже конец долгого дня, и ничего не получилось. Но это было неважно. Важно было то, что комаров было немного, и что кусались они несильно; но главное же успокоение приносила мысль, что временно никуда не надо было идти, плыть или лететь, а вместо этого, прибившись к тихому берегу, можно было сидеть и слушать песни-икарос и просто умиротворенно молчать. Как это было замечательно! Поэтому я тоже, под стать ему, сидела и хранила задумчивое молчание. И наблюдала за ним.
А сеанс лечения между тем продолжался. Вилсон периодически вдумчиво курил сигареты-мапачо, а однажды даже две мапачо одновременно. Постепенно я стала обращать внимание на некую странность происходящего. Я смотрела на него, не отрываясь, не пропуская ни одно из его движений, а он все затягивался и затягивался сигаретой, раз за разом, но дым при этом почему-то не выпускал, поэтому было непонятно, куда этот дым девался. Но потом он, видно, достиг все-таки некоего внутреннего предела, когда дальше вбирать в себя дым уже не представлялось возможным, и ему пришлось резко выдохнуть. Перед ним появилось небольшое белое облачко — оно было негустым, в нем виднелись прорехи утончившегося дыма, словно в коме ваты, который попал в руки к прядильщице, и она стала раздергивать его по сторонам. Но опять-таки, что интересно: выдохнуть-то он выдохнул, но только гораздо меньше, чем, по моим наблюдениям, в себя закачал. Все это как-то странно… я продолжала наблюдать дальше: появившимся дымом он принялся обмахивать себя: голову, грудь, плечи. Даже до спины дотянулся — помахал руками сзади, разгоняя в стороны этот странный беловатый дым.