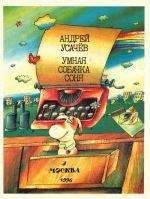Титус Буркхарт - Алхимия / Нотр-Дам де Пари
Остановившись подле маленькой калитки тюрьмы при Сент-Шапель и раздумывая, где бы ему выбрать место для ночлега, — а в его распоряжении были все мостовые Парижа, — он вдруг припомнил, что, проходя на прошлой неделе по Башмачной улице мимо дома одного парламентского советника, он заметил около входной двери каменную ступеньку, служившую подножкой для всадников, и тогда же сказал себе, что она при случае может быть прекрасным изголовьем для нищего или для поэта Он возблагодарил провидение, ниспославшее ему столь счастливую мысль, но, намереваясь перейти Дворцовую площадь, чтобы углубиться в извилистый лабиринт Сите, где вьются древние улицы-сестры, сохранившиеся и доныне, но уже застроенные девятиэтажными домами, — Бочарная, Старая Суконная, Башмачная, Еврейская и проч., — он увидел процессию папы шутов, которая тоже выходила из Дворца правосудия и с оглушительными криками, с пылающими факелами, под музыку неслась ему наперерез. Это зрелище разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. Неудача преисполнила душу Гренгуара такой горечью, что все, напоминавшее дневное празднество, раздражало его и заставляло кровоточить его рану.
Он направился было к мосту Сен-Мишель, но по мосту бегали ребятишки с факелами и шутихами.
— К черту все потешные огни! — пробормотал Гренгуар и повернул к мосту Менял. На домах, стоявших у начала моста, были вывешены три флага с изображениями короля, дофина и Маргариты Фландрской, и шесть флажков, на которых были намалеваны герцог Австрийский, кардинал Бурбонский, господин де Боже, Жанна Французская, побочный сын герцога Бурбонского и еще кто-то; все это было освещено факелами. Толпа была в восторге.
«Экий счастливец этот художник Жеан Фурбо!» — подумал, тяжело вздохнув, Гренгуар и повернулся спиной к флагам и к флажкам. Перед ним расстилалась улица, достаточно темная и пустынная для того, чтобы там укрыться от праздничного гула и блеска. Он углубился в нее. Через несколько мгновений он обо что-то споткнулся и упал. Это был пучок ветвей майского деревца, который, по случаю торжественного дня, накануне утром судейские писцы положили у дверей председателя судебной палаты. Гренгуар стоически перенес эту новую неприятность. Он встал и дошел до набережной. Миновав уголовную и гражданскую тюрьму и пройдя вдоль высоких стен королевских садов по песчаному, невымощенному берегу, где грязь доходила ему до щиколотки, он добрался до западной части Сите и некоторое время созерцал островок Коровий перевоз, который исчез ныне под бронзовым конем Нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узким, смутно белевшим в темноте ручьем, казался ему какой-то черной массой. На нем при свете тусклого огонька можно было различить нечто вроде шалаша, похожего на улей, где по ночам укрывался перевозчик скота.
«Счастливый паромщик, — подумал Гренгуар, — ты не грезишь о славе, и ты не пишешь эпиталам! Что тебе до королей, вступающих в брак, и до герцогинь бургундских! Тебе неведомы иные маргаритки, кроме тех, что щиплют твои коровы на зеленых апрельских лужайках! А я, поэт, освистан, я дрожу от холода, я задолжал двенадцать су, и подметки мои так просвечивают, что могли бы заменить стекла в твоем фонаре. Спасибо тебе, паромщик, мой взор отдыхает, покоясь на твоей хижине! Она заставляет меня забыть о Париже!»
Треск двойной петарды, внезапно послышавшийся из благословенной хижины, прекратил его лирические излияния. Это паромщик, получая свою долю праздничных развлечений, забавлялся потешными огнями.
От взрыва петарды мороз пробежал по коже Гренгуара.
— Проклятый праздник! — воскликнул он. — Неужели ты будешь преследовать меня всюду? Даже до хижины паромщика?
Взглянув на катившуюся у его ног Сену, он почувствовал страшное искушение.
— О, с каким удовольствием я утопился бы, не будь вода такой холодной!
И тут он принял отчаянное решение. Раз не в его власти избежать папы шутов, флажков Жеана Фурбо, майского деревца, факелов и петард, не лучше ли пробраться к самому средоточию праздника и пойти на Гревскую площадь?
«По крайней мере, — подумал он, — мне достанется хотя бы одна головешка от праздничного костра, чтобы согреться, а на ужин — несколько крох от трех огромных сахарных кренделей в виде королевского герба, выставленных для народа в городском буфете».
II. Гревская площадь
Ныне от Гревской площади того времени остался лишь едва заметный след: прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Но и она почти погребена под слоем грубой штукатурки, облепившей острые грани ее скульптурных украшений, и вскоре, быть может, исчезнет совсем, затопленная половодьем новых домов, стремительно поглощающим все старинные здания Парижа.
Люди, которые, подобно нам, не могут пройти по Гревской площади, не скользнув взглядом сочувствия и сожаления по этой бедной башенке, зажатой двумя развалюшками времен Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении группу зданий, в число которых она входила, и ясно представят себе старинную готическую площадь XV века.
Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции, окаймленной с одной стороны набережной, а с трех сторон — рядом высоких, узких и мрачных домов. Днем можно было залюбоваться разнообразием этих зданий, покрытых резными украшениями из дерева или из камня и уже тогда являвших собой совершенные образцы всевозможных архитектурных стилей средневековья от XI до XV века; здесь были и прямоугольные окна, начинавшие вытеснять стрельчатые, и полукруглые романские, которые в свое время были заменены стрельчатыми и которые наряду с последними еще продолжали украшать второй этаж старинного здания Роландовой башни на углу набережной и Кожевенной улицы. Ночью во всей этой массе домов можно было различить лишь черную зубчатую линию крыш, окружавших площадь цепью острых углов. Одно из основных различий между современными городами и городами прежними заключается в том, что современные постройки обращены к улицам и площадям фасадами, тогда как прежде они стояли к ним боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись лицом к улице.
Посредине восточной стороны площади возвышалось громоздкое, смешанного стиля строение, состоявшее из трех, вплотную примыкавших друг к другу домов. У него было три разных названия, объяснявших его историю, назначение и архитектуру: «Дом дофина», потому что в нем обитал дофин Карл V, «Торговая палата», потому что здесь помещалась городская ратуша, и «Дом с колоннами» (domus ad piloria), потому что ряд толстых колонн поддерживал три его этажа.
Здесь было все, что только могло понадобиться славному городу Парижу: часовня, чтобы молиться; зал судебных заседаний, чтобы чинить суд и расправу над королевскими подданными, и, наконец, арсенал, полный огнестрельного оружия. Парижане знали, что молитва и судебная тяжба далеко не всегда являются надежной защитой городских привилегий, и потому хранили про запас на чердаке городской ратуши ржавые аркебузы.
Уже в те времена Гревская площадь производила мрачное впечатление, возникающее и сейчас вследствие ужасных воспоминаний, которые с ней связаны, а также при виде угрюмого здания городской ратуши Доминика Бокадора, заменившей «Дом с колоннами». Надо сказать, что виселица и позорный столб, «правосудие и лестница», как говорили тогда, воздвигнутые бок о бок посреди мостовой, отвращали взор прохожего от этой роковой площади, где столько цветущих, полных жизни людей испытали смертные муки и где полвека спустя родилась «лихорадка Сен-Валье», вызываемая ужасом перед эшафотом, — самая чудовищная из всех болезней, ибо ее насылает не бог, а человек.
Утешительно думать, — заметим мимоходом, — что смертная казнь, которая еще триста лет назад своими железными колесами, каменными виселицами, всевозможными орудиями пыток загромождала Гревскую площадь, Рыночную площадь, площадь Дофина, перекресток Трауар, Свиной рынок, гнусный Монфокон, заставу Сержантов, Кошачий рынок, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Боде, ворота Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц, поставленных прево, епископами, капитулами, аббатами и приорами — всеми, кому было предоставлено право судить, не считая потопления преступников в Сене по приговору суда, — утешительно думать, что эта древняя владычица феодальных времен, утратив постепенно свои доспехи, свою пышность, замысловатые, фантастические карательные меры, свою пытку, для которой каждые пять лет переделывалась кожаная скамья в Гран-Шатле, ныне, перебрасываемая из уложения в уложение, гонимая с места на место, почти исчезла из наших законов и городов и владеет в нашем необъятном Париже лишь одним опозоренным уголком Гревской площади, лишь одной жалкой гильотиной, прячущейся, беспокойной, стыдящейся, которая, нанеся свой удар, так быстро исчезает, словно боится, что ее застигнут на месте преступления.