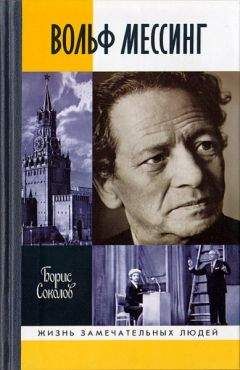Вольф Мессинг - Магия моего мозга. Откровения «личного телепата Сталина»
Мало того, мне приходилось выступать в паре с фокусником Яном Струлло, а я не хотел, чтобы публика принимала мои опыты, как фокус.
Хотя Ян, которого по-настоящему звали Меер (он был из люблинских евреев), походил на Леона Кобака[42] — тот тоже считал демонстрацию моих способностей фокусами.
«Раз непонятно, значит фокус». Каково?
Самое свое первое выступление я начал с сеанса гипноза — на это уходило меньше всего сил, а публике нравилось.
Вызвав добровольцев из зала, я внушал им изображать скрипача или пианиста, читать стихи с выражением и прочие «фокусы».
Народу в зале стало интересно, и тогда я перешел к чтению мыслей. Моя ассистентка не слишком хорошо понимала, что ей надо делать, и в основном мило улыбалась.
Номер с чтением мыслей давно уж был мною отработан, и многие приемы проходили чисто механически. Это не значит, конечно, что я выступал по одному и тому же лекалу — схема была одна, а наполнение, так сказать, разное. Невозможно представлять одно и то же в Варшаве, Париже и Бресте.
Люди различных наций думают чуть-чуть иначе, у них другие привычки и табу, свои легенды, понятия и пристрастия. То, что покажется фривольным немцу, у французов не вызовет особой реакции, а немецкая сентиментальность будет раздражать «лягушатников».
В общем, выступление удалось, мне долго аплодировали, а члены группы все допытывались, как же я проделываю все то, что показал на сцене. Я честно признался, что понятия не имею…
Документ 25
Из записной книжки В. Мессинга:
«17 октября 1940 года. Брест
Год я здесь, а оттуда — никаких вестей. Из газет и разговоров я узнаю, что в Польше ныне устанавливается «новый порядок», да и самого названия «Польша» более не существует — Гитлер повелел называть эту страну «генерал-губернаторством».
И что случилось с моими родными, я не знаю до сих пор.
Иногда просто раздражение берет — к чему мне это дурацкое умение провидеть будущее, если для самого себя я мало что могу предсказать?
С отцом я уже как бы попрощался: по всей видимости, он умер.
Я почувствовал это — словно оборвалось что-то во мне, перестало быть. Наверное, нас с ним связывало куда больше, чем память, какая-то незримая ниточка протягивалась-таки между нами.
И вот она лопнула…
А братья мои? Дядька Эфраим? Племянники и племянницы? Где они? Что с ними?
Вот, пишу это и будто выговариваюсь перед кем-то. Перед бумагой! А кому еще откроешься? «Кому повем печаль мою»?
Не знаю, для чего другие люди пишут дневники. Иные имеют своею целью запечатлеть ускользающие из памяти подробности, чтобы много позже освежить воспоминания, сравнивая свою жизнь, свою избранную в ней позицию со своим прошлым «Я».
Чего прибавилось с той поры, когда ты был молод и горяч? Опыта? Страданий? Болей? А убавилось чего?
Безрассудности? Максимализма, когда мир вокруг или черен, или бел, без полутонов?
А я, наверное, просто советуюсь с бумагой, обращаясь к себе теперешнему и к тому Велвелу, что состарится.
Я веду с тем стариком неспешный разговор, рассказываю ему о своем житье-бытье. Если он откроет когда-либо эту тетрадь, то, наверное, удивится, сколько всего ушло из его памяти, и грустно улыбнется, читая о моих сегодняшних метаниях.
Наверное, он — будущий «Я» — будет уже близок к пониманию тщеты всего сущего, но мне сегодняшнему всего сорок, я еще не изжил в себе иллюзии молодости, и тот, кем мне доведется стать лет через тридцать, ныне не указ.
Хорошо ему, престарелому Велвелу! Все уже отболело, посеялось прахом. Он привык к своим потерям, привык к одиночеству, а я тут мечусь, все пытаюсь спасти и уберечь, но всякий раз понимаю, что все мои попытки обречены на неуспех.
Постоянно меня мучают воспоминания, я перебираю и перебираю в уме подробности нашей последней встречи с отцом, пытаюсь понять, смог бы я спасти его от немцев, уберечь, увести с собой сюда, в СССР, или же я сделал все, что мог?
Понимаю, что чувство вины не покинет меня все равно, хоть сто раз докажи себе свою неповинность, а все равно грызу себя и грызу. Что ты станешь делать…
И обратиться за помощью не к кому. Не станет же Берия засылать в Германию секретного агента только за тем, чтобы тот разведал, где мои родные!
Пообщавшись с Абрасимовым, я принял его предложение — отправиться с гастролями в Вильну. Была у меня надежда, что тамошние евреи-литваки не утратили каналов связи с Польшей и могут мне хоть что-нибудь рассказать.
Что и говорить, надежда зыбкая, но другой у меня нет.
19 октября. Вильно
Зря я надеялся. Мне, конечно, сочувствовали, но лишь руками разводили — немцы не афишировали свои темные дела.
Старый Иосиф сообщил, что евреям в «генерал-губернаторстве» приходится туго. В Варшаве их всех сгоняют в гетто, и они там мрут от голода и болезней или надрываются, работая на немцев по двенадцать часов в день без выходных.
А еще есть концлагеря, куда евреев отправляют тысячами, и зовутся те лагеря мрачно — «лагеря смерти».
И что мне было думать?
Разнервничавшись, я отправился в синагогу.
В СССР религии были не в чести, и я обычно придерживался привычек атеиста, но тут, как говорится, приперло.
Как раз была суббота.
День стоял на диво теплый, но под сводами синагоги было зябко.
Я, впрочем, не чувствовал холода, слишком был сосредоточен на своем. Нет, я не молился Богу, я просто стоял и думал, погружаясь в торжественную тишину храма.
Порою чудилось, что лишь тончайшая грань отделяет меня от божества. Словно вокруг меня распахивалась бесконечность, открывалась гулкая пустота, и незримое присутствие Создателя улавливалась на уровне ощущений.
Я ничего не просил у Творца. Мне кажется, что людская назойливость не подобает общению с Господом.
Просить приплоду, вымаливать дары — это так мелко, так недостойно. Да и какое может быть общение у Творца и твари дрожащей?
Когда лицемеры лебезят, утверждая, что «мы — пыль под пятой Его», они сильно преувеличивают и слишком переоценивают человечество. Весь род людской для Бога — исчезающе малая величина, и умолять Его подать некие блага суть убожество и стыдная суетность.
От дум о высоком меня оторвали два товарища в штатском, но даже издали в них угадывались сотрудники НКВД. Они поздоровались и сказали, что со мной хочет поговорить товарищ Абакумов. И пригласили в машину.
Разумеется, я не стал задираться и сел в подъехавшую «эмку».
Дом, к которому меня подвезли, вывески над входом не имел, но охрана тут была.
Меня провели в кабинет капитана госбезопасности Абакумова, и я занял стул. Правда, хозяин кабинета садиться не предлагал — он был из тех людей, которым приятно унижать ближнего.
Неприятный оказался человек, к тому же он был настроен ко мне довольно-таки враждебно. Только из-за того, что я родился евреем.
Поразительно, но в Советском Союзе был распространен антисемитизм, хотя и сам Ленин был на четверть евреем.
А Троцкий? Каганович? Маленков? И тем не менее…
А Абакумов все продолжал свои игры — перекладывал папки на столе, просматривал — для виду — какие-то бумаги, в общем, изображал крайнюю занятость.
Это тоже было приемом из серии «Как унизить посетителя». Вот только я к нему сам не пришел, меня привели. Стало быть, я нужен Абакумову. Так чего ж тянуть? Есть нужда — выкладывай, в чем дело. Или я попал к дураку? Похоже, что так оно и есть.
Вероятно, капитан получал от процесса унижения некое извращенное удовольствие — поглядывая на меня, он словно вырастал в своих глазах.
— Вольф Мессинг — это настоящее ваше имя? — снизошел капитан наконец.
— Не совсем, — ответил я. — Мое настоящее имя — Велвл, но в документах я для удобства записан, как Вольф.
— С какой целью находитесь в Вильно? — резко спросил Абакумов и пристально, не мигая, посмотрел мне в глаза.
— Приехал сюда на гастроли.
Абакумов начал меня раздражать. К чему этот допрос?
Вспомнив, как меня принимал Берия, я ощутил неприязнь к капитану — недалекому, жестокому и охочему до власти.
Невольно я передал Абакумову это воспоминание как посыл, и капитан испугался. Мало ли какие отношения у этого жида с наркомом, — подумал он опасливо и резко сменил «маску», мигом перевоплотившись в доброго и отзывчивого человека.
Но его нутро по-прежнему оставалось гнилым. Я был ему нужен как инструмент для упрочения положения.
Абакумов не просто так интересовался моими психологическими талантами, в нем жила вера в могущество гипноза, немного детская. Отец его второй жены выступал под именем Орнальдо, именно как гипнотизер, причем неплохой.
Отсюда, по-видимому, и возник интерес к моей персоне.
— Я наслышан о ваших необыкновенных способностях, Вольф Григорьевич, — сказал капитан вкрадчиво. — Очень бы хотелось увидеть, как вы это делаете.