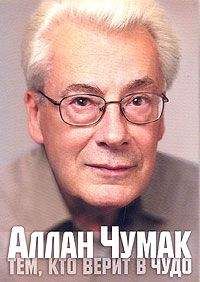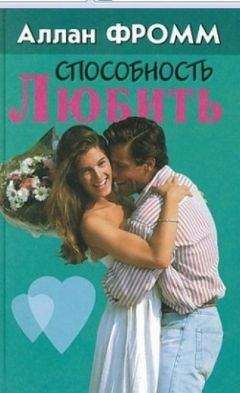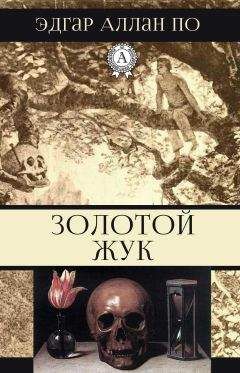Артур Уэйт - Каббала
117 Писатели-оккультисты, как правило, отдают предпочтение Египту как родине системы Таро, что согласуется с их взглядами на происхождение Каббалы. Так, монсеньор С. Лисмон (Z. Lismon) издал версию карт под заглавием Libre de Thot, Jeu de 78 Tarots Egyptiens с сопроводительной брошюрой. Ср.: Falconier R. Les XXII. Lames Hermetiques du Tarot Divinatoire, которые, по его уверению, восстановлены в точности по «священным текстам и переводу» «Магии Древнего Египта»! Ближе к нашему времени масонский литератор Освальд Верф (Wirth) воспроизвел две версии Главных Козырей, а в Англии полный комплект карт Таро, ценный по своей символике и художественному качеству, появился моими стараниями.
* Имеется в виду Шут – карта, которая символическим образом является одновременно нулевой, центральной и последней картой Большой тайны Таро и дает смысл всему раскладу через толкователя.
118 И в этом соответствие между Зогаром и мистикой. Например, в Зогаре, неоспоримо, имеется учение об экстазе, но не в том виде, что мы находим у Рейсбрука или Иоанна Креста. Скорее это рационализированная система мистической мысли.
119 Zohar. Mantua ed. Pt. I. Fol. 51a.
120 Анатоль Лерой Боло (Anatole Leroy Beauleu) говорит, что евреи не склонны к мистике и, по-видимому, никогда не были к ней предрасположены. «Иудаизм всегда был Законом, религией ума, интеллектуальным кредо и не располагал к мистическим взлетам и духовным томлениям». Он отрицает также, что Каббала зародилась в еврейской среде. «Мистика Каббалы и хасидизма, неокаббалы явно чужеродное привнесение; по мнению авторитных судей, сама Каббала не укоренена в иудаизме» (Beauleu A.L. Israel among the Nations / Trans. by F. Hilman. London, 1895. P. 292). Эта точка зрения говорит лишь о поверхностном знакомстве автора с предметом.
Книга двенадцатая
Заключительные размышления
I. Продолжатели и толкователи Каббалы
Обнародование Зогара рабби Моше де Леоном в конце XIII в. (он его тайный автор по убеждению одной стороны) было подлинным потрясением для общества Израиля, как это было потрясением и для ученых-христиан, узнавших о нем позднее. Я говорю об этом со знанием дела, поскольку впервые сведения о рукописях Зогара приходят к нам от Пико делла Мирандолы в конце XV в., и, как мы видели, он первым высказался о наличии в этом памятнике христианских элементов. С другой стороны, еврейские толкователи и продолжатели зогарического учения относятся к XVI в. и позже; но я говорю о тех из них, кто снискал репутацию каббалистов, и, если кто-то пожелает углубиться в эту тему, существуют обширные библиографии неизданных рукописей раввинской литературы, которые хранятся в сокровищницах Ватикана и других библиотеках Европы1. Говоря в общем, как я уже имел случай заметить в другом месте, толчком к исследованиям с обеих сторон послужил выход в свет Кремонского и Мантуанского изданий Зогара. Вместе с тем, насколько можно судить по имеющимся данным, нельзя сказать, чтобы такая литература была чрезмерно обширна и с той и с другой стороны; но несколько сынов Израиля создали удивительнейшие произведения с не меньшим рвением, чем Пико делла Мирандола и его последователи. Лучшему каббалисту-еврею Зогар открыл безграничное поле для развития оригинального учения и оправдания своеобразных метафизических спекуляций, близких его сердцу в тот период. О большей возможности нельзя было мечтать, ведь я отмечал, что Зогар демонстрирует на протяжении всего своего обширного корпуса текстов более или менее совершенное знакомство со всеми главными темами, охватываемыми им, и потому не слишком озабочен презентацией формально целостной системы Тайной Доктрины. Позднейшие каббалисты воссоздавали то, чего недоставало здесь и там, из собственной головы с помощью всевозможных flotsam и jetsam теософских фантазий, передававшихся из уст в уста в академиях от Цфата до Бокера. Мы знаем, что в середине XVIII в. в иудаизме появились две секты, провозгласившие Зогар своим главным духовным авторитетом. Это движение Благочестивых, или неохасидов, отвергавших Талмуд вместе с внешними формами богопочитания и с особым рвением практиковавших созерцательную молитву, как это рекомендуется в Зогаре тем, кто взыскует внутреннего знания Божественных Тайн. Хасиды сосредоточили свои усилия в этом направлении2. Соломон Маймон оставил описания причудливого поведения этих энтузиастов, последователей Израиля Баал Шем Това3. Движение хасидов подверглось суровым гонениям со стороны ортодоксального иудаизма и активно существовало в Польше еще в середине XIX в. Сейчас оно, мне кажется, скорее в состоянии распада, нежели упадка. Вторым явлением была секта зогаристов; они действовали в той же стране и также отвергали Талмуд. Ее основал Яков Франк, и впоследствии его сторонники приняли христианство4. Я говорю об этих явлениях, чтобы показать тот род влияний, которое оказывал Зогар в один период в отдельном регионе. О его скрытом влиянии на европейское еврейство в таких отдаленных районах, как Галиция, мы, вероятно, никогда не узнаем в силу того, что о позднейшей стадии Каббалы нет адекватных документов.
Нет смысла расширять наше исследование дополнительными данными о дальнейшем развитии идей Зогара и вкладе в его понимание, сделанном в XVI и XVII вв. Были комментаторы и продолжатели и помимо тех, о ком упоминается в девятой книге: одни создавали лексиконы темных и «чуждых» слов, встречающихся в тексте; другие писали комментарии к отдельным разделам; третьи анализировали каббалистическую систему, как она представлена в Зогаре. В отношении одного и всех можно было бы сказать, что для тех – если таковые еще остались, – кто верит в то, что традиция продолжает передаваться изустно в среде еврейских ученых раввинов, лучше не заглядывать в документы, на которые я ссылаюсь как на письменные свидетельства их представителей. Как уже отмечалось в части некоторых примеров, они в основном занимались воспроизведением сохранившихся мистических спекуляций, к коим присовокупляли свои собственные. Если бы диспуты в Саламанке сводились к тому, что Fama Fraternitatis R. C. называет «правдивым изложением фактов», поздние каббалисты – если бы их допустили на подобный конклав – могли бы внести свою лепту в такое обсуждение, и это вполне согласовывалось бы с правилами и порядком, принятым в дискуссиях подобного рода; но все это оставалось бы в рамках последовательного изложения цепочки тезисов с открытым полем для возможных антитезисов. Несмотря на хор возражений, лично я не пришел к выводу, что позднейшая литература, дополняющая и развивающая зогарическую Каббалу, обладает высокими достоинствами. И, главное, она ничего не прибавляет к высочайшим учениям Зогара о Шхине и Тайне пола.
Уже сравнительно в наши дни отвечающие за свои слова писатели твердили нам, будто Зогар сам быстро завоевал место в еврейской среде; будто «даже представители талмудического иудаизма стали воспринимать его как священную книгу»; будто «зогарические элементы проникли в литургию XVI и XVII вв.»5. Но и здесь самые возвышенные учения не были раскрыты, или, во всяком случае, мне не удалось обнаружить признаки этого развития. Были поэты еврейского происхождения, воспринявшие отдельные элементы зогарической символики; но это та специфическая часть, что называют неудачным термином «эротическая символика», где высокие понятия Возлюбленного и Возлюбленной снижены до чувственной образности. О высшей же части души, которая не покидает Божественную сферу, поэты не говорят, как говорят об этом ученые того времени, которых в Израиле принято называть мудрецами и законоучителями. Об Эйн-Соф как об умозрительном концепте или доктрине трансцендентной теологии мы время от времени слышим и можем познакомиться с развитием этого понятия в исторической перспективе; но об опытном богопознании души по ту сторону форм и образов, по ту сторону имени и атрибутов снова ничего. Размышления встречаются в беседах, а развитие положений включено в системы, в отличие от лаконичных и глубокомысленных сентенций в некоторых ранних текстах, которые по сравнению с ними звучат как бы из центра и открывают широкие перспективы. Они действительно открываются некоторым из нас и, по крайней мере, одному из тех, кто в смиренномудрии по-новому осмысляет свои собственные высказывания многолетней давности – что душа исходит из центра, а центр притягивает ее обратно.
В заключение этого раздела надо сказать пару слов о некоторых работах современных исследователей, которые представляются по-своему значительными и достойными интереса. Когда мое первое исследование тайной традиции евреев готовилось к печати, доктор Карпп опубликовал в Париже в 1901 г. свой обширный труд Etude sur les Origines et la Nature du Zohar, в котором подходил к предмету с отличной от моей точки зрения, но это был в то же время ценный вклад в наше знание еврейской теософии, и я с удовольствием отметил, что есть немало различных спорных пунктов, по которым, идя столь несхожими путями, мы пришли к общему выводу. Труд Карппа предназначался ученым и философам, а мой, как было сказано, обращался преимущественно к теософски мыслящему читателю. Доктор Карпп прекрасно обрисовал еврейскую мистику, предшествующую и подводящую к Зогару, но о влиянии, оказанном этим памятником, и о его дальнейшей истории он ничего не говорит. С другой стороны, в силу самой концепции своего исследования я поневоле ограничился достаточно беглым освещением дозогарической теософии, вклада Саадии, Ибн Гвироля, Йегуды ха-Леви, Абен Эзры, Маймонида и др., поскольку они не оказали значительного влияния на европейскую мистическую мысль, а основной акцент сделал на каббалистическую литературу последней фазы, на христиан-каббалистов и на влияние Зогара на прочие предполагаемые каналы тайной традиции в Европе. Из точек соприкосновения между мной и Карппом можно упомянуть обоюдное признание гетерогенной природы Зогара, чем оправдано мое обозначение жанра этого памятника как литературного попурри и смеси различных материалов; специфически еврейского характера зогарической мистики, чем оправдано мое отрицание всякой его соотносимости с какой-либо школой или направлением мистической мысли вне иудаизма; об ускоренной деградации Каббалы после выхода в свет Зогара в низменную магию; о незаслуженно высокой оценке комментариев на Зогар и обусловленных этим ложных установках, из которых исходили ученые-христиане в своем подходе к каббалистической литературе, вследствие чего они рассматривали ее с предвзятой точки зрения как неизвестную доселе сокровищницу протохристианского вероучения; об отсутствии в Сефер Йецире какого-либо четко выраженного пантеизма и эманационизма. Было также значительное сходство мысли и трактовки развития каббалистических и типически зогарических доктрин о Боге и универсуме, особенно касательно Эйн-Соф и творения ex nihilo. Можно было бы легко продолжить этот список сходств, хотя с той же легкостью можно перечислять многочисленные точки расхождения; потому что, с другой стороны, доктор Карпп, на мой взгляд, слишком большое значение придает различиям между ранней еврейской мистикой и мистикой эпохи Зогара, не потому, что такого различия не существует или оно незначительно, но потому, что я не нашел, чтобы его оспаривал хоть один компетентный исследователь. И конечно, как мистик, я не могу согласиться с его концепцией мистики, эксплицитно или имплицитно проходящей через все исследование. Мистика – это не двойная доктрина монотеизма для посвященных и многобожия для простолюдинов, равно как и любые антитезы, вроде тех, что выдвигало в прошлом духовенство; однако ограниченность места позволяет здесь лишь указать на этот пункт и отметить тот голый факт, что специалисты в этой области, к которым я лично обращался, готовы поспорить с доктором Карппом сейчас, как должны были это сделать тогда, в отношении всего, что следует из его концепции, будь то вопрос простой дефиниции типа того, что мистика – это якобы репрессалия веры против науки, или об исторической критике, как, например, когда он замечает, что доктрина экстаза почти неизвестна еврейской теософии, – заявление, которое сам автор настойчиво, хотя и не эксплицитно в разных вариантах повторяет на разные лады на дальнейшей стадии своего исследования. Сведущий человек заметит также тенденцию в определенных случаях обходить вопросы критики, как если бы они вообще никогда никем не затрагивались: с одной стороны, комментарии Гая Гаона используются так, будто ни один ученый-исследователь не ставил под сомнение их аутентичность; а с другой – поздняя датировка Бахира принимается как сама собой разумеющаяся. Научная критика еще не сказала своего последнего слова ни по одному из этих вопросов, но доктору Карппу научная критика не указ.