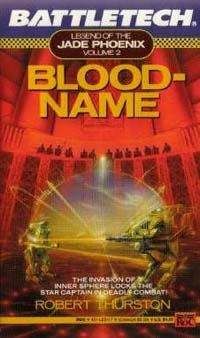Николай Сиянов - Сувенир из Нагуатмы. Триумф Виджл-Воина
Мне скоро двадцать семь. Выходит, всего-то три годочка и побыл на своей истинной родине в Тонком Мире. И на новое рождение. Что за спешка такая? Иные живут там столетия, даже тысячелетия, а я погостил три годика и в новую командировку на Землю. Для чего? Чтобы успеть снова встретиться со своей Веруней? Отдать кармические долги, развязать узлы? Да, очень похоже…
Отдать долги — над этим следует хорошенько подумать.
Но, может, и другое у меня — не совсем здоровая Мыслеформа; не хватило силенок — проще — для долгого пребывания в Тонком Мире… потому скорее назад? Хм, а куда же кэп подевал ее, свою Прану и Свасти? На работе сжег или за так раздарил “капитанским дочкам”?
Похоже, я осуждаю все-таки капитана Максимова, то бишь себя. И это, наверное, хорошо, близко к покаянию. А стало быть, к очищению.
…Однако почему именно эта сценка дана, именно она перед глазами, не иная: трал, полный рыбы по палубе… “давай-давай!”… гибель матроса? Ведь неспроста же именно это особенно ярко. Неужели матрос погиб по вине капитана Максимова? Ну не напрямик, а косвенно… Я, что, извергом был? ради плана губил своих моряков? Но пришел час платить… час искупления? Кармические весы нарушены?… О, Господи, если я в самом деле не свихнулся, мне предстоит многое оценить.
P.S. Недавно я примерял костюм Андрея Максимыча… свой собственный костюм, который висел на мне как на вешалке. Разве не театр абсурда?
Р.P.S. В Тонком Мире души вольны выбирать новые воплощения. С одной стороны, они могут пойти на рождение просто по привычке, по притяжению “колеса сансары”, а с другой — некоторые развитые сущности уже самостоятельно предрешают свой земной путь, рождаются для определенной цели. Таким образом, предположение мое… ну, о том, что капитан поторопился назад, чтобы встретиться с женой для какой-то цели, — не такое уж оно и вздорное. Несомненно одно: кармические долги в жизненной драме одного и того же лица играют решающую роль.
6 марта. Весь вечер с Верой Васильевной. Она больна: и сердце шалит, и ноги опухшие, давно уже не выходит из дома. И к ней мало кто ходит. Читает книжки, библиотека в доме хорошая, смотрит телевизор. Рада мне, когда прихожу вечерами. Еще больше довольна, когда расспрашиваю ее. Одиноким да стареньким это очень нужно, когда интересуются их прошлым, ведь, кроме прошлого, у них, по существу, ничего нет.
Слушал, смотрел на Веру Васильевну, и все больше изнутри подмывало: расскажи! поведай без утайки, что пришло тебе в недавние дни Свыше. Признайся, что ты ее “Максимыч в квадрате” и есть. Нет, немыслимо! Мурашки по коже… Даже если и поймет, признает на словах… с сердцем-то как быть? с рассудком неподготовленным? Как жить после в одной квартире? Как вести себя, о чем говорить?
Нет, тайна сия великая есть; одному еще и по плечу, а вдвоем никак не снести.
7 марта, раннее утро. Ко всему можно привыкнуть, привыкаю и к этому. Еще одна любопытная деталь. Оказывается, я могу теперь при некотором усилии кое-что вспомнить… из жизни капитана Максимова. Собственно, из своей прошлой жизни.
Ну, например, нынче. Проснулся, на дворе темно, вставать рано. Чем заняться? Лежал в подвешенном состоянии между сном и бодрствованием, думал о капитане, каков тот был в молодости. И вдруг… перед очами ресторан, многолюдье, оркестрик. Хорошо кругом, разгульно; мне двадцать пять, штурманец, недавно из далекого плавания. Девушка красивая за соседним столом в компании славных подружек. Она с южного солнышка откуда-то, стройная, загорелая, с золотыми, выгоревшими волосами. А я из проклятого Лабрадорского моря, промерз за Полярным кругом, потому и потянуло к южаночке отогреться.
Деньги в кармане водились. Выскочил, Веруне позвонил: на вахте, мол, нынче подменяю старпома. Моя Веруня в жизни строга, со стороны не подступись. В женихах три года хожу-ухаживаю, а все без результата. И нравится она мне именно за это, за строгость свою: такая королева теперь редкость! Ничего, моя будет; люблю, женюсь вскорости… но! Шесть месяцев во льдах Лабрадора, живой я или уже замороженный? А тут такая южаночка дразнится… Вот, говорят, Петрарка, поэт, сгорал от любви к одной крале, а сам из борделей не вылазил, чтобы, значит, как-то не допустить самовозгорания… Чиф в рейсе травил, нашему старпому я верю. “Как хороши, как чудны были розы” — это знаю. А Петрарку нет, не читал. И Пушкин был по женской части хорош! И вообще, жить хорошо и жизнь хороша, как сказал хорошо один мой хороший знакомый — маслопупый механик. Проводим дамочку, если вон тот чернявенький за соседним столом — глаза-уголья! — не опередит.
…Нет, не опередил, но помешал, скотина. Уже из ресторана шли, я с Анжеликой под ручку; рука у нее прохладная с бархатными волосками. Умереть можно. Но тут из-за угла неожиданно тот, с пылающими шарами, выкатил. Да не один. Пришлось выяснять отношения. В свалке саданули меня остреньким под бок. Ах, как хорошо саданули! Наяву будто: клубок тел, острая боль в боку, вскрик…
Я в самом деле вскричал и вскочил с постели. Зажег свет. У нижнего ребра по правой стороне алела полоска, даже как будто копились капельки крови.
Ну, дорогой штурманец… будущий кэп Максимов, мы так не договаривались. А как? Разве мы как-нибудь с тобой договаривались?
Прижег полоску одеколоном; ничего, пройдет. Однако… Как объяснить все это? И вообще, можно ли, надо ли объяснять умом? Ну с памятью, с переживаниями (когда я, Славик, уже и не Славик совсем, а другой, молодой красивый штурманец после рейса) ладно, с этим как-нибудь утрясется, привыкну. Почему удар, как наяву, боль, даже капельки крови? А если в следующий раз моего хорошего приятеля начнут бить палками по голове, мне, что остается — визжать и плакать?
…Все проходит, и это прошло. Я несколько успокоился, снова лег. Задремал будто… Больница, палата четырехместная; полосатые, перебинтованные, хмурые рожи… Все койки заняты, а у моей, что у окна, на тумбочке — цветы. Прекрасные гвоздики, пять штук. И она, Верунчик, рядышком в белом халатике поверх сарафана. “Ну как ты, Максимка, мог?!” — “Да уж вот так, оплошал. Больше не буду”.
Совсем, как у маленького, получилось: больше не буду. Обоим смешно, а мне, Максимке, смеяться сейчас очень даже полезно.
7 марта, вечер. Предпраздничный суматошный день. Мотался по городу… ну хотя бы чего съедобного! Купил пряников, отстоял очередь за тортом. У метро в киосках почему-то одни тюльпаны. А мне гвоздики нужны. Гвоздики! гвоздики! словно зациклило. На рынке достал за космическую цену. Там же, не считаясь с деньгами, накупил уже заморские для нас диковины: алма-атинских яблочек, ташкентской кураги, азербайджанских гранатов… В кооперативной будочке приобрел шампанское; за подобную цену раньше я мог купить игристого два-три ящика.
После обеда выкроил полчаса на медитацию. Без особого труда прошел слои сознания — возвышенного, интуитивного, озаренного… Состояние всезнания, всемогущества, гениальности… Жаль, что воз вращение назад, в привычную физическую сферу ума, приносит лишь отблеск Истины, воспоминание о ее всеобьемности. Трудно выразить свое состояние доступнее. Да и не в этом дело. Для меня, пожалуй, важнее сама Информация, добытая из Над-Разума. Или из Информативного поля Земли. Или из Ноосферы Вернадского. Словно бы просмотрел киноленту о себе, о счастливом дне своей жизни. Может, даже самом счастливом. И той, недлинной жизни, и этой, короткой пока, но тоже едва не оборвавшейся; именно такое убеждение осталось: мой самый счастливый день. Он состоял из взаимной любви и взаимных сюрпризов…
Мы отдыхали в изумительном местечке: с одной стороны, теплый залив, с другой — прохладное Балтийское море, а посредине раскаленные дюны длинной и изогнутой, как сабля, Куршской косы, острова буйной зелени, медные сосны, чернолесье, обилие малины, земляники, смородины… И даже пруд был недалеко от поселка Рыбачьего, богатый карасями, кувшинками и лягушками.
Я проснулся еще затемно, неслышно покинул домишко, а с солнцем, к Вериному подъему, уже принес ведерко карасей; и это был мой первый, мой ранний сюрприз. Я любил и был любим, и нам обоим нравилось делать другу подарки. Эта песчаная коса, это райское место — мой неожиданный даже для самого себя сюрприз любимой подруге: калининградский приятель-морячок обещал славный отдых, сладкий медовый месяц; так и случилось. Я поверил ему, вытащил Веруню из каменных джунглей на Неве.
После завтрака мы искупались в заливе; я любовался женой — волной ее пшеничных волос, милой мордашкой, стройной фигуркой. И вот уже она тащит меня в лес, и там в глубине, в небольшой канавке вдоль старой заброшенной дороги, показывает семейство — целый выводок белых грибов — это ее маленький утренний подарок, ответный сюрприз. “Посмотри, — говорит она, — вот этот, важный, в желтой зюйдвестке, папа, а эта матрона в колючей хвое, словно в вуале, — это ихняя мама, а это — их малые ребятишки”. Ребятишек было поболее десятка. “Намек ясен”, — отвечаю я, и она смеется, набрасывается на меня с кулаками.