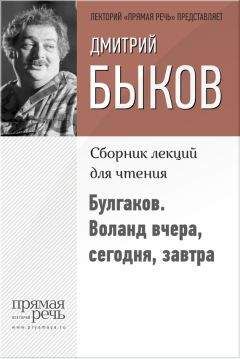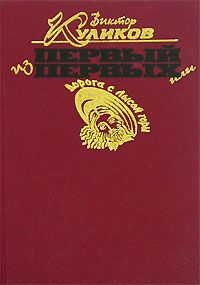Щемелинин Сергеевич - "Я"
День вступил в свои права. Мы уже миновали полосу разноцветной растительности и углубились в облака. Деревья остались внизу. Там, в белом тумане дул уже очень сильный ветер, и когда он дул в полную силу, тогда высокогорные травы, растущие вертикально, лежали на земле плашмя. Среди облаков было очень трудно ориентироваться, поэтому кони бежали совсем медленно, делая меньше ста километров в час. Копыта лошадей звучали как-то приглушенно и немного таинственно – становилось страшновато; но когда же, наконец, мы поднялись выше облаков, тогда на душе сразу стало спокойнее, а прозрачный морозный воздух обострил чувства и улучшил восприятие.
Мы скакали над облаками, и они плыли под нами, такие белые и многообразные по форме. Появились первые ледники и уплотненные ветрами участки снежных надувов. Копыта лошадей без устали топтали и снег, и лед, и дерн, и камень. Ледяной ветер дул все время, становясь все холоднее и резче по мере подъема, но мы не чувствовали холода – мы только лишь чаще дышали. Это Хала – возможности у ее живых существ таковы, что неблагоприятные горные условия выдерживаются ими с легкостью, – им всего лишь приходится чаще дышать, чтобы увеличить поступление озона и чаще (или больше) есть, чтобы покрыть возросшие по сравнению с существованием на равнине затраты энергии.
На пятикилометровой высоте пропали последние разноцветные растения – пустыня изо льда и промерзшего камня окружала нас. Кони мчались, обходя туманы, и низкое небо висело над нашими головами. Серо-ледяной мир с фиолетовым оттенком окружал нас в полупрозрачной дымке горизонта. На мое удивление ветер стих, и мы смогли наслаждаться тишиной первозданного мира, нарушаемого лишь шумным дыханием лошадей да звонким стуком их копыт. Сероватые и коричневатые краски не печалили душу, а наоборот, радовали ее бледной светлой грустью. Было так хорошо, что невозможно словами описать это состояние, – я и мои спутницы почувствовали его, и нам хотелось, чтобы оно как можно дольше не проходило.
Лошади преодолели перевал, лежащий на более чем семикилометровой высоте. За перевалом поднялся свирепый ветер со снегом, он хлестал так безжалостно, что казалось, вся кожа на лице, руках и ногах состоит из одних уколов иголками. Запах охлажденного фтора, казалось, утратил свою резкость и стал как-то спокойнее и мягче. Мы задыхались в разреженном воздухе, нам было тяжело, а каково было нашим коням, которые несли нас на этой головокружительной высоте! Крутые склоны, пропасти и ледники ждали их, и они преодолевали их!
И снова горы, горы без конца и края – вверх-вниз, вверх-вниз и снова вверх-вниз. Солнца мы не видели уже давно: последний раз оно глянуло на нас в разрывах туч на высоте более шести километров. Вершины гор нависали над этим миром, миром, где, казалось, мы единственные существа, еще осмеливающиеся двигаться.
Порой наши кони преодолевали пропасти одним прыжком, иногда же обходили по таким узким, кривым, обледенелым и неровным тропинкам, что казалось, там пройти было невозможно, но наши кони проходили их на скорости, из-за этого не успевая поскользнуться.
И вот перед нами протянулось горное ущелье, со дна которого поднимался туман. Мы остановились – пропасть была слишком широка для нас, а обходной путь был очень долог – он терялся где-то вдалеке туманов. Кони устали, они хватали губами снег, и пар шел от их мощного дыхания. Склон, на котором мы остановились, был слишком крутым для лошадей, но вполне проходимым для нас. Я приказал всем спешиться. Ледяной камень, едва прикрытый снегом, совершенно не холодил мои подошвы – их тепло, пока мы там стояли, и я размышлял, что же нам делать дальше, начало растапливать окружающий снег, образовав лужицу воды вокруг каждой стопы.
Наконец, я принял решение, и мы полезли вниз, все трое, а наши кони остались наверху. Я цеплялся за выступы камней своими ладонями, находя выемки когтями ног, царапал ими камень, нащупывая надежное место для ног и понимал, что без когтей мне было бы гораздо труднее обойтись. Я радовался своей предусмотрительности, ведь я не взял сам и не дал свои спутницам никакой обуви, – и сейчас нам это пригодилось. Мы спускались вниз, склон постепенно становился все более отвесным, но трещин в камнях было много, поэтому он был пока еще проходимым. Остается надеяться, что склон останется таким же и до самого низа пропасти.
Тот склон, на котором мы все находились, был гораздо выше противоположного, и я учитывал этот факт в своих расчетах. По-моему мнению, кони могут перепрыгнуть пропасть, поэтому, когда они отдохнули, я приказал им сделать это. А потом мы увидели чудо, как на почти четырехкилометровой высоте бело-голубые кони Халы одним чудовищным, фантастическим, просто невероятным прыжком, преодолели эту пропасть! Мы видели их снизу, мы видели их как безмолвных белых ангелов, летящих на фоне серого неба. Почти два с половиной километра пролетели по воздуху эти кони – о, нет! – их скорее можно было бы назвать птицами! Хоть я и не видел глазами, но я видел сердцем, как подогнулись у них ноги от сильнейшего удара о землю при приземлении, и как осколки льда брызнули из-под них во все стороны. Мы услышали три громких глухих удара, когда копыта лошадей врезались в обледеневший камень, а потом с чувством глубокой радости уловили далекий дробный перестук – значит, наши кони живы и не переломали себе ноги при приземлении.
Мы спускались все ниже и ниже, держась руками и цепляясь когтями ног, а на противоположном склоне по удобной тропинке к нам легко бежали все три лошади, и ни на одной из них не было заметно ни единого повреждения.
Мы спускались все ниже и смотрели на наших дивных коней до тех пор, пока туман на дне ущелья не скрыл их от нас.
Мы спустились вниз, а там, внизу, нас поджидали три бело-голубые туманные создания – наши кони, а потом мы сели на них и поскакали дальше. Толчки седел и дробь копыт как-то странно подействовали на нас: что-то родное, хорошо знакомое, родом из детства, что-то неуловимо прекрасное повеяло на нас и так ладно и согласованно легло на сердце, что нам всем стало настолько хорошо, что захотелось творить добро и поделиться переполнявшим сердце счастьем с другими. Мы стали частью этого мира, он вошел в наши души, он стал частью нас.
А наши дивные кони несли нас все дальше и дальше, горы становились все ниже и ниже, появились растения, которых росло все больше и больше, и ближе к полудню мы спустились к предгорьям по другую сторону хребта, распрощавшись с его каменными исполинами.
Мы знали, что нас ждет дальше, ведь, еще спускаясь с заоблачных высот, мы видели, как степь, начинающаяся за предгорьями, постепенно переходит в пустыню. Полоса всхолмленной степи была такой узкой, что ее можно было считать за предгорья, только уже безводные и обожженные солнцем.
Мы остановились у родника, на нас веяло жаром полудня вместе с пеклом близкой пустыни, а лошади все пили и пили, и им все было мало. Мы спешились и тоже напились из холодного горного ключа вместе с ними, и вода казалась нам вкуснее самого вкусного напитка. Нас ждала пустыня, и солнце на высоте безоблачного голубого небосвода, казалось, предупреждало нас не бросаться в это пекло.
Мы легко преодолели двухсоткилометровую полосу степей и поскакали параллельно пустыне. Кони не углублялись в пески – на них очень трудно развить хорошую скорость, а пустыню нужно было преодолевать быстро. Прошел полдень, когда, наконец, вместо песков началась каменистая полупустыня. Лошади углубились в чахлый кустарник, нашли родничок, попили воды и пустились в путь через пустыню. Полупустыня кончилась очень быстро – исчезли кусты, поредели жалкие пучки травы – и началась самая настоящая пустыня: ее гладкие и пологие холмы были невысоки и состояли из морской гальки, видимо, когда-то на этом месте плескалось мелководное море или же было большое озеро.
Кони легко скакали по обожженной столетиями гальке, они мчались со скоростью свыше четырехсот километров в час. Клубы пыли оставались за нами – мы неслись веером, чтобы не пылить в глаза друг другу. Солнце аж дрожало от собственной ярости, камни раскалились, жар воздуха сводил с ума – если бы сейчас брызнуть водой на эти камни, то вода вскипит на них и с шипением превратится в пар.
Пейзаж, проносящийся назад, не был однообразным: сначала шла галечная равнина черно-белого цвета, утрамбованная дующими в течение столетий ураганными ветрами, затем пошли пологие красновато-белые холмы, сложенные растрескавшимися от солнца горными породами, после чего мы миновали песчаное русло давно высохшей большой реки, за которой начались невысокие горы: красно-желтые ущелья с примесью коричневых полос, скалы и утесы того же цвета, только более светлые в свете яростного солнца; и, наконец, уже к концу пути, пустыня изменилась вновь: теперь она до самого горизонта раскинулась широкой волнистой равниной из красно-зелено-черного песка. Пустыня поражала обилием сухой пыли, застилающей глаза и затрудняющей дыхание; она обжигала светом, льющимся с высоты бесконечно высокого неба, и свет этот был столь силен, что от него начинали болеть глаза – он делал окружающий мир настолько ярко-контрасным, что голова утомлялась, и я периодически на пару мгновений терял ориентацию. Нагретый камнями воздух полупрозрачными потоками струился вверх, а миражи, сливаясь с реальностью, задавали загадки и путали мысли, раскрашивая океан небесного огня в причудливые фантастические узоры. Вначале, когда мы только вступили в пустыню, пить практически не хотелось, но потом пламя ослепительно-белого солнца сделало свое дело, и жажда стала все сильнее и сильнее мучить нас, однако мы крепились.