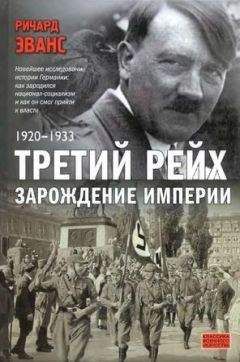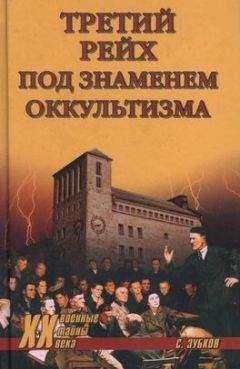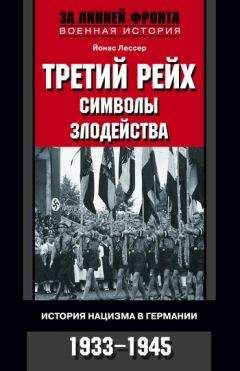Андрей Васильченко - Миф о вечной империи и Третий рейх
На предыдущей стадии развития, когда социализм еще не был партийным термином, а всего лишь человеческим понятием и стремился к познанию вечной человеческой природы, Сен-Симон в критике человеческих привилегий высказал отличительное требование, которое должно было стать условием для наступления справедливости на Земле. «От каждого по способности! Каждой способности по ее ценности!» Это требование было подхвачено Марксом, который в то время развивал холодную диалектику «порабощения индивидуума разделением труда». Маркс истолковал эту формулу весьма материалистически, добавив: «Каждому по потребности». Ленин подхватил требование Сен-Симона, приобщив, что равенство еще не значит равноправия, что одинаковые права для разных людей (от себя мы добавим и наций) приводят скорее к несправедливости. В результате Ленин приходил к выводу, что большевистское равенство труда и его оплаты является всего лишь «формальным правом», а теперь перед человечеством стоит задача сформировать еще и «фактическое право».
Ленин завершил обращение социалистической идеи. Ленин не мог согласиться с тем, что его выводы возвратили людей именно в то место, где они пытались обустроить свое бытие через государственность. Мы не хотим сказать, что он их возвратил в старое государство, рухнувшее, когда стало проявляться вырождение идеи, на которой оно основывалось. Он привел их туда, где новая государственность смогла реализовать свои права, что приводит любое общество, даже революционное, не к окончательному равенству, а к новому неравенству. Права зависят от стремления к правам. Ленинизм предпринял в России попытку испытать это на практике. Он познал, что при переходе от капиталистического к коммунистическому обществу существует некий «переходный период», который называется диктатурой пролетариата. Нам кажется, что направление, которого придерживается Советское государство, является как раз не «курсом на коммунизм», о котором говорил Ленин, не стремлением к утопии, а ориентацией на реальную политику.
Для консервативного мышления любые революционные эксперименты — это окольная дорога. Как только такой эксперимент становится фактом, без разницы идейным ли, или прикладным фактом, то консервативная идея считается с ним и пытается приобщить его в политическом смысле. Для консервативной идеи история никогда не начинается с нуля, она находится в постоянном продолжении самой себя.
У консерватора есть преимущество перед пролетарским сознанием, так как он обладает знанием о великих исторических взаимосвязях, которые врастают в каждую новую реальность. Они образуют петлю из известного и ощутимого прошлого, а затем связывают мир с неведомым и незримым будущим. Именно эти связи определяют настоящее. Это не книжные знания, которые можно постигнуть, несмотря на то, что сделать это все-таки трудно. При каждом удобном случае пролетариат ощущает на себе мощь противопоставленного ему образования, которое отличает сознательного человека от инстинктивного. Даже там, где так называемое буржуазное образование рухнуло, оно все равно дает техническое превосходство над пролетарием, чье пролетарское самообразование, несмотря на настойчивость, остается Несколько примитивным, недостаточным, убогим и односторонним.
В данной ситуации мы ведем речь о знании крови, которое возвышает консерватора. Это природная способность проникать в действительность и утверждать свои унаследованные от природы воззрения. Это естественная склонность у лидерству, которое вновь и вновь выпадает в удел консерватору, так как оно принадлежит ему по праву. Он носит в себе титаническое наследие суждений, которое люди когда-либо оставляли людям. Этот человеческий опыт существует в сознании консерватора в виде традиций и заветов, которые он мог передать дальше. У реакционера эти знания застывшие, отмершие, и, как следствие, разрушившиеся. Революционер вообще отрицает человеческий опыт, он не знает и не хочет знать ничего о нем, так как смутно чувствует, что эти знания опровергают его представление о прошлом.
Мир реакционера рухнул, когда он обесценил свои принципы, а жизнь с ними стала привычкой. Это произошло тогда, когда постоянно свершающийся консервативный процесс превращения настоящего в будущее утратил свою жизненную движущую силу. Революционер пребывает в иллюзии, что вместе с этим крушением настало мгновение, когда бытие будет определяться совершенно новыми принципами, которые родились в его голове и которые, по его мнению, можно будет навязать настоящему. Эти умозрительные законы еще не стали событием в истории, однако они уже трактуют прошлое как историческое и злосчастное время, а будущее характеризуют как неопределенную, но безоблачную эпоху. Революционер создал новое летоисчисление, которое делится на два периода. Первый начинается с появлением жизни на Земле и длится до Карла Маркса, второй — исчисляется от Карла Маркса и длится до конца земной жизни. Однако против незаконных притязаний этой иллюзии выступает сама непрерывность человеческой истории. Если мы допустим, что в один момент революционер уничтожил «прежнее общественное устройство» и стер с лица Земли все его следы, то в тот же самый день история как консервативный закон движения вновь начнет свой бег. Временам, которые возомнят себя подводящими черту, история воздаст насилием. Мировоззренческие духи проигнорируют декреты, которые якобы создают новый мир, умершее вновь станет живым.
Непрерывность и консерватизм дополняют друг друга. Это грани того высшего принципа, который лежит в основе всего происходящего. Коммунизм имеет в лучшем случае семьдесят пять лет, во время которых пролетариат, который обязан был победить, должен подготовить мир к классовой борьбе. Но этим семидесяти пяти годам противостоят совокупность тысячелетий, космическая природа нашей планеты, биологическая природа населяющих ее существ, а также человеческая природа, которую не смогла исправить и подавить самая великая, самая духовно всесторонняя революция — явление Иисуса и возникновение христианства. Эти годы обратят против себя расовые особенности, влияние культуры, законы геополитики, которые переживут любые изменения исторической авансцены и действующих на ней людей. Им подчинены даже Христос и христианство. Ими были вызвано влияние, которое оказывал античный человек на средиземноморский регион, пока Европа не оказалась полностью трансформирована нордическим человеком. Для революционера история начинается с него самого. В этом отношении Маркс говорил о пролетарском движении как о «независимом движении абсолютного». Но он перепутал движение и самодвижение, а потому не видел того, что все движущееся перемещается отнюдь не само по себе, а приводится в движение тысячелетиями, оставленными позади.
Марксизм полагал, что может не считаться с этой непрерывностью человеческой истории. Он верит в то, что условия, в которых человек сам творит свою историю, сокрыты в материальных предпосылках и жизненных обстоятельствах. Марксизм полагает, что после того, как будут полностью раскрыты эти условия, он в состоянии сделать грядущую историю человечества полностью материальной.
Но куда важнее духовные условия. В тонкой брошюре, содержащей памфлет, называемый коммунистическим манифестом, непритязательные социалисты хотели бы увидеть книгу Фауста. Но против нее восстали Святой Августин и Данте, мифы древности и средневековая мистика, протест, критика и идеализм немецких людей нашего величайшего времени. Против подмены европейской культуры пролетарским культом выступают формы, которые глубоко и неизгладимо отпечатались на нашем восприятии вещей. Против эпохи космополитических масс, которая должна быть сломлена, поднимается национальная история каждой отдельной страны.
Пример России подтверждает это. Повсюду в мире коммунистический эксперимент наталкивается на консервативные силы, повелевать которыми революционер не в состоянии. Русские ли это или европейские силы, но они определяют политическую действительность. Ленин при случае упоминал эти силы. Он как теоретик говорил об «остатках прежнего», которые мы можем, отмечал он, наблюдать «повсеместно в новом», «как в жизни и природе, так и в обществе». Наблюдение, сделанное Лениным, могло иметь решающее значение. Но он не извлек из него никаких выводов. Он всего лишь констатировал факт. Как русский он обладал исключительным чувством понимания процессов и состояний. Являясь революционером, рационалистом, фанатичным поборником идей прогресса, сознание которого было одержимо эволюционными представлениями, он все-таки смог даже в этом увидеть проявления прошлого. Но как государственный деятель, который должен был ставить опыты над людьми, над собственным народом, над своей страной, он во всяком случае признавал, что между «новым», которое он создавал, и «старым», которое ему досталось, существовала связь. А именно консервативная взаимосвязь, с которой революционер не мог не считаться. Отныне умножение жизни зависит от того, в какой степени будет восстановлена эта взаимосвязь, от времени и от силы этого процесса, от взаимоотношений, которые, порвав с революцией, вновь станут консервативными. Для консерватора «старое», о котором говорил Ленин, является не остатком чего-то, но цельным явлением. Явлением вездесущим, всеобъемлющим, неувядающим. А новое «является» всего лишь продуктом времени. Если «старое» застаивалось, превращаясь в «привычное», если консервативное становилось реакционным, то «новое» должно было вновь привести их в движение. Определенно революция будет иметь именно такое воздействие, только если она закончится не полнейшим развалом, но всеобъемлющим обобщением.