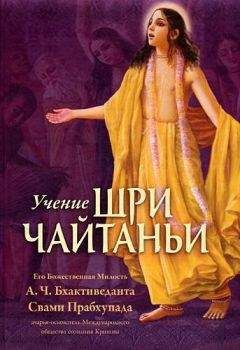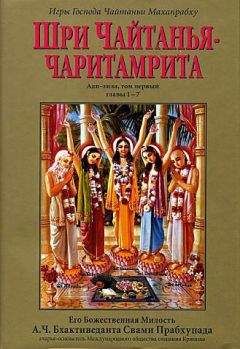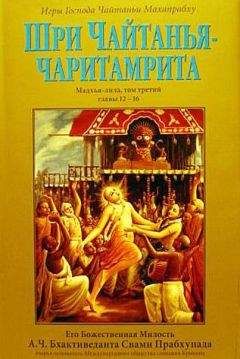Альберто Виллолдо - Четыре направления - четыре ветра
Иду уже около часа. Черт. Дерьмо. Кажется, это тропа. А может, и нет. Чувства на взводе. Ловлю движения света и тени, глаза прикованы к земле, периферийное ощущение угрозы… ум джунглей похож на белый шум, непрерывное однообразное шшшхххххххх, но на этом фоне отчетливо слышно, как хлюпают и чавкают мои башмаки, влажно хрустит валежник, лопочут листья… Пряная сладость гниения в пазухах листьев пахнет жизнью, закрытой теплицей…
Прикосновения папоротников и лиан, они вытягиваются, перегораживают дорогу, колышутся и хлещут меня по лицу… Вкус тревоги.
Я остановился под этим деревом, потому что я слишком быстро двигался. Слишком быстро бьется сердце. Я дышу слишком быстро. Я слишком быстро думаю. Хотелось бы знать, действительно ли в конце этой тропы живет дон Рамон Сильва. Надо надеяться. Очень уж далеко идти обратно до Пукальпы. Я остановился здесь для того, чтобы отдохнуть и успокоиться.
Я боюсь?
Нет. Не могу определить это ощущение. Оно входит в меня через поры. Энергия. Но я мог бы заснуть здесь и сейчас же. Возбуждение. Но мой карандаш спокойно и разумно пишет эти строки. Живой. Я очень живой. Я никогда так не чувствовал Природу. Она знает, что я здесь. Я чувствую ее и знаю, что она чувствует меня, и я чувствую, что она знает, что я здесь. Боже мой, какое это могущество!
Я прислонился спиной к дереву, вытянул ноги, скрестив лодыжки, закрыл дневник вместе с карандашом и сунул его в рюкзак. Я закрыл глаза и стал слушать песню джунглей. Не знаю, как долго я слушал. Я почувствовал, что сползаю все ниже, мой метаболизм замедляется, меня заполняет блаженство внутреннего и внешнего комфорта.
Что-то ползет!..
Я дернулся со сна и, упершись ладонями в землю, подтянулся ближе к дереву и снова прижался к нему спиной. Ничего нет. Никакого движения, никаких змей. Только небольшая перемена в освещении за истекшие полчаса: сдвинулись световые пятна и отрезки лучей, пробившихся сквозь густой потолок листьев, сучьев и лиан.
Что же меня так напугало?
Я попробовал подняться, но почувствовал легкое сопротивление. Я посмотрел вниз на свое тело. Там и здесь вдоль моего тела, по ногам и даже по рукам протянулись молодые побеги, тонкие усики уже ощупывали меня, пытаясь обвиться вокруг тела. Я не возражал.
Поляна виднелась в тридцати метрах от меня. Я не дошел каких-то сотни шагов.
Дома никого.
Дом стоит среди поляны, как архетип примитивного рая в джунглях. Покрытая пальмовыми листьями крыша над Г-образной платформой, стены из переплетенных пальмовых листьев. Куры, свинья на привязи возле пальмы.
Позади дома (здесь, правда, трудно отличить «позади» от «спереди») травяной покров уступает место песку па берегу небольшой лагуны. Утки, болотные куры в коричнево-зеленом оперении. Лагуна окружена бахромой джунглей. Треснувшая от старости долбленая лодка перевернута вверх дном, корма ее затоплена водой и покрыта скользкими водорослями.
У самого края поляны стоит сухое дерево чиуауако с покрученным дуплистым стволом, рядом с ним горит огонь. Здесь же стоят две жестянки из-под растительного масла, наполненные пятнистой красновато-коричнево-фиолетово-оранжевой жидкостью. Цвета не смешиваются. К деревянной перекладине над огнем подвешен глиняный горшок, в нем булькает какое-то варево, издающее странно-приятный кислый запах.
Сажусь и жду. Оголенные корни чиуауако служат мне подлокотниками, словно я в кресле.
Я вскочил на ноги и чуть не упал, запутавшись в корнях дерева. Он пришел из джунглей и появился из-за дерева. Ростом он был едва метр шестьдесят; но джунгли дали его телу крепость. У него было мягкое прямоугольной формы индейское лицо, большой крючковатый нос; удлиненные верхние веки придавали глазам азиатскую раскосость. Серебристо-седые густые волосы были зачесаны назад, открывая лоб с глубокими морщинами. От крыльев носа к уголкам рта шли резкие складки. Губы такие же коричневые, как и вся кожа.
— Дон Рамон Сильва?
— Рамон, — сказал он и широко улыбнулся.
Я пожал ему руку. Короткие толстые пальцы, утолщенные, вероятно, от артрита, суставы. Он поднял голову и взглянул на меня снизу сквозь щелочки век:
— Bienvenido, — сказал он.
Позже
Он знал, что я приду. Он ожидал меня. Он видел меня во сне.
Но он не ожидал, что я такой рослый.
Я сказал ему, что я психолог. Он кивнул.
Я сказал ему, что слышал о нем в Куско. Он улыбнулся.
Я сказал ему, что профессор Антоиио Моралес Бака рассказал мне, как его найти. Судя по лицу, это не произвело на него никакого впечатления. Он взглянул на мой багаж и как будто удивился, но затем улыбнулся и кивнул, словно что-то понял.
— У нас будет toma, — сказал он.
— Тoma?
— Да. — Он показал на перекладину: — La soga. Веревка.
— Церемония с аяхуаской? — спросил я.
Он кивнул.
— Ты ел?
Пища! Я забыл и думать о ней. Теперь я вспомнил, что проглотил тарелку омлета в шесть часов утра в аэропорту Куско. Я взглянул на часы. Без четверти шесть. Двенадцать часов! Я умирал с голоду.
— Нет, не ел, — сказал я. — Я очень голоден.
— Вuеnо, — сказал он. — Значит, у тебя будет хороший аппетит утром.
В пятидесяти метрах от поляны проходит излучина небольшой речки. Вода в лагуне чистая, но почти стоячая; здесь же она неторопливо течет в джунгли, в Амазонку.
Я разделся и искупался, выполоскал пот и пыль из одежды. Я ощутил бодрость, но вместе с ней и волчий голод. На поляну мне нужно вернуться после захода солнца.
И вот я сижу скрестив ноги на мокром песчаном берегу и ожидаю нового опыта. Я не знаю, как служить и этому опыту. Либо все пойдет не так, о чем предупреждал профессор Моралес, либо сам опыт подскажет, что делать.
Дон Рамон, видимо, принял меня без колебаний: то ли я ухитрился безупречно представиться (понятия не имею, как мне это удалось), то ли здесь вообще нет предварительных условий (хотя Рамон не производит впечатления неразборчивого человека). Шерстяное пончо, которое я привез из Куско в качестве подарка, не годится: он его никогда не наденет, хотя бы из-за этой дикой жары.
И вот я сижу, и не знаю, как мне быть. Как-то это все нелогично, неразумно и самонадеянно. И смахивает на игру в поддавки.
Моралес говорил что-то о неразделимости причины и следствия. Вероятно, мне лучше прекратить эти размышления.
Это моя последняя запись перед сегодняшней вечерней церемонией. Перед тем, как я выпью йаге.
Брайен, это для тебя:
— Тринадцатое февраля. Иду вверх по реке.
4
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь.
Бытие 2:16-17Я сидел на petate, циновке из переплетенных пальмовых листьев, посередине комнаты. Комната была большая — занимала всю короткую сторону буквы Г — и пустая. Вертикальные грубо обтесанные деревянные столбы, стены из переплетенных накрест пальмовых ветвей, а вверху стропила, и на них обшивка крыши из тех же пальмовых листьев.
Одна из стен была открыта на лагуну, и лунный свет, отраженный от воды, попадал в комнату. Четыре крупные свечи стояли по углам petate и горели высокими недвижными языками оранжевого пламени.
Я сидел, скрестив ноги и положив запястья на колени, и смотрел вниз па два предмета, блестевшие в сиянии свечей: длинную трубку, вырезанную из твердого дерева в виде фигурки индейца, протягивающего, словно дар, чашу на ладонях; ноги его обвивала змея. Неплотно набитый табак свисая через края чашечки. А рядом лежала арфа — простой выдолбленный кусок твердого дерева с тонким проводом, туго натянутым между его концами.
Шум джунглей ночью стал другим. Непрерывное однообразное шипение знойного тропического дня перешло в ритмическую песнь миллионов насекомых. В этот ритм вплелись глубокие, низкие звуки напева; я взглянул в сторону лагуны и на фоне сияющей лунной дорожки увидел силуэт Района. Мелодия его напева соответствовала ритму джунглей. Он держал что-то в руках. Чаша? Он поднял предмет к небу.
Я не мог разобрать слов его песни, но припев повторялся, а текст состоял из четырех куплетов, которые он исполнял поочередно, поворачиваясь к четырем сторонам света.
Это была чаша, деревянная чаша; он поставил ее между нами. В ней был тот же напиток, который я видел над огнем, — густая жидкость цвета грибного супа, свекольного сока и морковного сока, и от нее шел острый запах. Я подумал о тканях моего тела, жаждущих пищи, готовых поглотить все, что угодно. Йаге выглядел сильнодействующим и опасным.