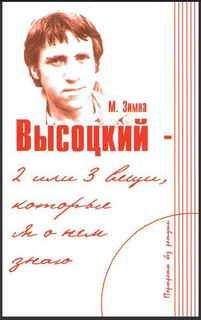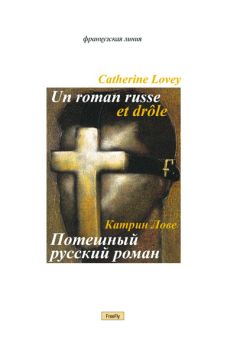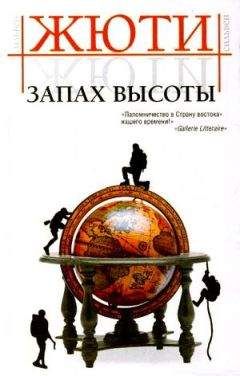Сильвен Жюти - Запах высоты
Быть может, он был бы счастливее, останься он проводником в Доломитовых горах? Водил бы себе привередливых клиентов обычными маршрутами – по Пунта Синке Дита, Сима Гранде или через перевал Важоле. А в свободное время – читал. Литература и философия были его вторым увлечением, и хотя он не мог посвящать им много времени, зато прекрасно чувствовал, что это – важнее гор. Но нет, Уго понимал: поднявшись на определенный уровень, читатель философских книг создает новые истины и сам становится философом, а альпинист, проводник он или нет, на определенном уровне открывает новые пути – точено так же, как философ. И путь одних изменяет мир, наполняет его светом, а путь других – его путь – бесцелен; этот путь ведет в никуда, только усиливая его тоску.
Уго влечет в горы его особый дар, его талант – вот и все. Но в любом случае в таком же ослеплении, как и он, все человечество движется по пути к своей судьбе – к потере человечности, ибо люди теперь везде и всюду стремятся возвыситься над человеческой сутью.
И тем хуже для тех, кто может оставаться просто людьми, иными словами – неудачниками.
История, по словам старика Маркса, повторяется в виде фарса. И вот уже Ницше становится приманкой для вождя, искавшего свой идеал – сверхчеловека, лишенного недостатков…
Уго спросил себя вдруг, а не было ли его нежелание иметь ребенка на самом деле вызвано мыслью, что он может умереть со дня на день. Он знал по опыту, каким бесстрашным может он быть в одних обстоятельствах и как ему не хватает храбрости в других.
Уго давно уже ощущал разлад между собой и миром, и разлад этот все увеличивался. Он сознавал эту слабость и понимал, что в ней – его сила: отсюда он черпает волю совершать те безумные поступки, на которые никто другой не решится, отсюда же – его способность выживать. Ну конечно, ему еще и везет. Но чем больше мир восхищался его подвигами, тем меньше ценил их он сам, все чаще завидуя тем, кто живет «нормально». Он не мог сознаться в мучающих его сомнениях. Он был способен признать свои страхи, но не смятение. Он чувствовал, как на его шее затягивается удавка, – и чем сильнее он рвался на волю, тем теснее сжимался этот гордиев узел; возможно, помочь ему разрубить его мог только кто-то посторонний, а это было физически невозможно: он вечно пропадал где-то в горах. И потом, каждый его подвиг приносил ему только временное освобождение; он «бросал вызов» каждой новой горе (как выражаются теперь газеты на своем сленге, предпочитая примитивный школьный словарь), но ему не удавалось забыть свою болезнь, он нес ее с собой все дальше и выше. Ему не становилось лучше: просто в горах он больше о ней не думал. Но возвращаясь, как всегда с победой, он вновь встречался лицом к лицу с теми же вопросами, с теми же страхами, и его охватывало сожаление о той спокойной жизни, которой жили все и которой у него никогда не было: о доме, семье, детях, самой обыкновенной жизни, о планах на будущее, на много лет вперед – основательных, избитых, плоских, о крепко вросших в землю корнях и опыте, который он мог бы передать потомкам.
Напрасно Уго строчил книгу за книгой, ему нечего сказать другим: ничего жизненно важного, ничего нужного, все его знания, умения и опыт – бесполезны. Его пример ничему не учит, он служит просто символом, льстивым зеркалом на потребу хозяевам жизни, превратившим его в образец подражания, который они тычут в нос своим рабам. Рекламные слоганы, пропаганда. Его жизнь – пуста, он не нужен никому, разве что дельцам, которые на нем зарабатывают, – таким же всем чужим, бесполезным и настолько похожим друг на друга, что невозможно отличить одного от другого. Он знает, что лжет, подбирая громкие бессмысленные слова и роскошные фотографии. Но знает об этом только он один, потому что весь мир его обожает. Он пишет о своих усилиях, радостях и даже страхах, тогда как – пока он проживает все то, о чем. рассказывает, – все эти слова ровным счетом ничего не значат; и когда он диктует их своему «негру» – поденщику, придающему им литературную форму, – он понимает» что все это – только риторика, в которой нет ни капли истинного чувства; он просто говорит людям то, что они хотят, выбирая слова, Которых от него ждут, и подпускает легко узнаваемую точно выверенную дозу удивления и нарочитой шероховатости, которая и получила не слишком удачное название «его стиля». Это – правила реализма, который не терпит вымысла. Потому-то ему и нужен «негр»: он переписывает его истории так, что с их страниц буквально «кричит правда», что полностью соответствует ожиданиям читателей. Вот так и рождается легенда об Уго Деллапорта, герое, сверхчеловеке – выдуманном и в реальной жизни не существующем.
Я живу во лжи. Он вдруг понял, что невольно пробормотал эти слова вслух, и огляделся по сторонам. Никто не обратил внимания. Что ж, итальянский – не тот язык, на котором говорит весь мир.
Уго устал вести такую жизнь. И продолжал жить как жил, потому что не мог ничего изменить. Конечно, иногда ему хотелось чего-то другого. Он всерьез подумывал, не прекратить ли ему все это. В конце концов, он не обязан ни перед кем отчитываться. Но трудно просто исчезнуть, если ты – знаменитость. Он восставал против этой мысли: с какой стати, кому он должен давать какие-то объяснения? Впрочем, он чувствовал себя так, точно уже умер. Он живет как животное, почти бессознательно. Ему известно, что в некоторых обстоятельствах сознание бесполезно и даже вредно, и именно это его умение – выживать в таких обстоятельствах, когда нужна способность превращаться в животное и слушаться только своих инстинктов ради того, чтобы выжить, – и принесло ему столько денег.
Им восхищались, но не тем, что было в нем от человека, им восхищались как бесчувственным и сверхчеловеческим существом; и эта мысль возмущала его больше всего.
Нет, ничто не могло помешать ему остановиться, но у него никогда не хватало на это храбрости. Он знал, что известный человек, такой как он, имеет все права, кроме одного – права разрушить то, на чем покоится его известность. И он боялся, что не сумеет устроить свою жизнь. Этот страх его и останавливал: он никогда не боялся без причины; похоже, подумал он, этот инстинкт не раз спасал ему жизнь, в то время как столько его друзей и знакомых погибли, не поверив своим страхам.
Да, Уго уверен: если он стал величайшим из ныне живущих альпинистов, так только потому, что умел бояться и не боялся признаться себе в этом.
Но он чувствовал, что конец близок. Прежде всего как альпинист он уже стар – тем более для того, кто ходит гималайским стилем. И скоро его догонят и превзойдут другие; просто чудо, что этого еще не случилось. Ведь был же тот чех с непроизносимой фамилией, о котором уже начинали говорить, пока он не погиб на Аннапурне; есть эта американка, что без конца твердит о своем желании взять верх над мужчинами (пусть! – думает Уго, – кто ей в этом помещает?): она уже прошла несколько восьмитысячников по всем обычным маршрутам вместе с безымянным шерпом, о котором никто никогда не пишет; теперь еще этот юный австриец, что все время его подначивает – точно так же, подумал Уго, как я сам провоцировал старших в его возрасте. И потом, он, конечно, не сомневался в своих способностях, но ему довелось повидать слишком много смертей: иногда люди погибали прямо у него на глазах, порой – его лучшие друзья, а однажды он видел столь жестокую гибель, что постарался сделать все, чтобы никогда больше не вспоминать об этом – этой истории нет ни в одной из его книг: никто не должен знать, сколько везения в том, что он еще жив, сколько случайных удач скрыто в том, что называют его «гениальностью».
Но сейчас, с возрастом, проблема приобретала все большую остроту. Чем еще он может заняться? Новые вершины, новые маршруты? Ничего не изменится: все горы похожи друг на друга; а ему хотелось бы чего-то иного – но чего? Он не видит выхода; ясно, что ничего нового просто не существует. Нельзя рассчитывать на то, чего нет. Всем нам недостает неизвестной вершины.
Он так ничего и не находил, пока ему не написал Ван Янцзы из Пекина.
Он познакомился с Ваном несколько лет назад в Непале на международном конгрессе альпинистов, в то время как раз шептались об открытии горного Тибета для иностранцев. И хотя китаец был каким-то мелким чиновником и, следовательно, коммунистом, он оказался простым, открытым, приятным, остроумным, короче, очень притягательным человеком. Сначала они обменивались колкостями, но после нескольких разговоров прониклись взаимной симпатией, по-прежнему притворяясь, будто не замечают этого, – не столько перед собой, сколько перед своими товарищами. А глотнув немного чанга и бутанского виски, Ван позволил себе рискованную откровенность, рассказав о советско-китайской экспедиции 1956 года; Уго понял, какое уважение и какое доверие оказал ему Ван, и, пообещав, что это никак на нем не отразится, конечно же, умолчал об этом разговоре, хотя его откровения могли бы изменить очень многое, опровергнув массу вещей, признаваемых западными специалистами за общеизвестные истины. Потом Ван сделал карьеру, став директором «Chinese Mountaineering Association». Естественно, он пристально следил за продвижением своего друга (хотя друг – это, пожалуй, преувеличение); короче говоря, когда по каким-то сложным политическим причинам зашла речь о том, чтобы подыскать и продемонстрировать западному миру хорошо контролируемую властями область китайской территории Тибета, было решено разрешить восхождение западной экспедиции на Сертог, Ван тут же подумал об Уго, тем более что список его достижений выглядел весьма внушительно: его восхождения принесли ему титул лучшего гималаиста мира, который почти никем не оспаривался. И вот Ван предложил ему организовать экспедицию на Сертог, не утруждая себя ненужными напоминаниями о том, что это высочайшая и до сих пор не покоренная вершина нашей планеты: 7945 метров. Почти восемь тысяч.