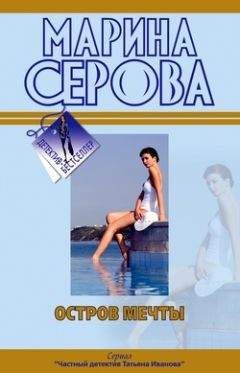Алессандро Барикко - 1900-й. Легенда о пианисте
Что до меня, я никогда и не думал, что он вообще был несчастлив. Он был не из тех, о которых задумываются: интересно, он счастлив или нет. Он был Тысяча девятисотым, и все тут. Никогда и в голову не приходило, при чем здесь счастье или горе. Казалось, он стоял выше всего этого, он выглядел неуязвимым. Он и его музыка: остальное было не важно.
«Не думай, что я несчастлив: я никогда больше не буду несчастлив». Эта фраза меня обескуражила. Когда он говорил это, то было видно по лицу, что он не шутит. Было видно, что он прекрасно знает, куда идти. И что он придет туда. Точно так же, когда он садился за рояль и начинал играть, в руках его не было никаких сомнений, и клавиши, казалось, ждали этих нот всегда, – казалось, они превращались в них, именно в них. Казалось, он их изобретает одну за другой, но где-то у него в голове эти ноты были записаны всегда.
Теперь я знаю, что в тот день Тысяча девятисотый решил сесть перед белыми и черными клавишами своей жизни и начать играть музыку – абсурдную и гениальную, сложнейшую, но прекрасную, лучшую в мире. И что под эту музыку будет танцевать тот, которому оставалось прожить его годы. И что никогда больше он не будет несчастлив.Я сошел с «Вирджинии» 21 августа 1933-го. Шесть лет спустя после того, как взошел на нее. Но мне казалось, прошла вся жизнь. Я сошел с нее не на день и не на неделю: я сошел навсегда. Со всеми документами, заработанными деньгами и всем остальным. Все как положено. Я покончил с Океаном.
Не то чтобы мне не нравилась эта жизнь. Это был странный способ зарабатывать, но он действовал. Только не могло же так продолжаться вечно. Если ты моряк, это другое дело, – море – твоя жизнь, ты можешь плавать, пока не сдохнешь, и это нормально. Но если ты играешь на трубе… Если ты играешь на трубе, на море ты чужак и будешь им всегда. Раньше или позже, конечно же, ты вернешься домой. Лучше раньше, сказал я себе.
«Лучше раньше», – сказал я Девятисотому. И он понял. Было видно, что ему совсем не хочется смотреть, как я спускаюсь по трапу навсегда, но чтобы сказать мне об этом – он никогда мне этого не сказал. Так даже лучше. В последний вечер мы играли, как обычно, для этих идиотов из первого класса, и, когда пришло время моего соло, я начал играть, и через несколько нот я услышал звуки рояля, которые тихо-тихо, нежно зазвучали вслед за мной. Мы играли так вместе, и я играл лучше, чем умел, о боже, я не был Луи Армстронгом, но я действительно играл хорошо, – это Девятисотый мне подыгрывал, он следовал за мной повсюду – только он так умел. И они долго так продолжали – моя труба и его рояль, в последний раз, – они говорили то, что не выразить словами. Вокруг нас люди продолжали танцевать, никто ничего не заметил, никто и не мог заметить – что они понимали! – продолжали танцевать как ни в чем не бывало. Может быть, правда, один из них сказал другому: «Посмотри-ка на этого смешного трубача, наверное, он пьян или сумасшедший. Посмотри на трубача: он играет и плачет».
Что случилось со мной потом, когда я сошел с корабля, – уже другая история. Может быть, я сумел бы придумать что-нибудь хорошее, если бы только не началась вдруг эта проклятая война, все из-за нее. Она все запутала, невозможно было ничего понять. Нужно было иметь сильные мозги, чтобы разобраться. Нужно было иметь такие качества, которых у меня не было. Я умел играть на трубе. Просто удивительно, насколько это бесполезно – играть на трубе, когда вокруг бушует война. Вокруг тебя. И никуда от нее не деться.
Во всяком случае, о «Вирджинии» и о Девятисотом я многие годы ничего не знал. Нельзя сказать, что я забыл, я всегда помнил о них и часто спрашивал себя: «Интересно, что бы делал Девятисотый, если бы был здесь, – интересно, что бы он сказал, – „в задницу войну“ – он бы сказал», но, сказанное мной, это было совсем не то. Иногда было так плохо, что я закрывал глаза и мыслями уносился туда, и видел себя в третьем классе, и слушал, как эмигранты поют свои песни, а Девятисотый играет себе бог знает какую музыку, – его руки, его лицо, Океан вокруг. Я отдавался своей фантазии и воспоминаниям, – бывает, что это единственное, что тебе остается делать, чтобы спастись, ничего другого. Жалкий фокус, но срабатывает всегда.
В общем, с этой историей было покончено. Казалось, по крайней мере, что покончено. Потом однажды я получил письмо, мне написал Нил О’Коннор, тот ирландец, который все время шутил. На этот раз, впрочем, письмо было серьезное. Он писал, что «Вирджиния» вся разбита – войной, – ее использовали как плавучий госпиталь; в конце концов ее довели до такого состояния, что решили пустить ко дну. В Плимуте высадили оставшийся экипаж, начинили ее динамитом и скоро выведут ее в открытое море и покончат с ней: бум! – и конец. В конце стоял постскриптум: «У тебя есть сотня долларов? Клянусь, я тебе верну». А внизу еще один постскриптум: «Девятисотый, он ни в какую не сошел». Только это: «Девятисотый, он ни в какую не сошел».
Несколько дней я вертел в руках это письмо. Потом сел на плимутский поезд, добрался до порта, разыскал «Вирджинию», дал денег стоявшим рядом охранникам, поднялся на корабль, обошел его сверху донизу, спустился в машинное отделение, сел на ящик, похоже набитый динамитом, снял шляпу, положил ее на пол и сидел так молча, не зная, что сказать/
…Не двигаясь, глядя на него, – он, не двигаясь, смотрел на меня/
И у него под задницей тоже был динамит, всюду динамит/
Дэнни Будмэн Т. Д. Лемон Тысяча девятисотый/
Можно было подумать, он знал, что я приду, – точно так же как он всегда знал, какие ноты я буду играть, и…/
Это лицо – постаревшее, но постаревшее красиво, без следов усталости/
На корабле – полная темнота, только слабый свет пробивается сквозь щели, – ночной свет/
Белые руки, пиджак, застегнутый на все пуговицы, начищенные ботинки/
Он ни в какую не сошел/
В полутьме он казался каким-то принцем/
Он ни в какую не сошел, он бы взлетел в небо вместе со всем остальным, посреди моря/
Прекрасный финал, и все смотрят с причала, с берега, – огромный фейерверк, прощай, занавес опускается, огонь и дым, а потом – огромная волна/
Дэнни Будмэн Т. Д. Лемон/
Тысяча девятисотый/
В этом корабле, поглощенном тьмой, последнее воспоминание о нем – голос, совсем тихий/
/
/
/
/
/
(Актер превращается в Девятисотого.)
/
/
/
/
/
Весь этот город… и края у него не было…/
Край, прошу вас, нельзя ли увидеть край?/
И шум/
На этом проклятущем трапе… все было прекрасно… и я был таким франтом в этом пальто, я здорово выглядел, и я не сомневался, – было ясно, что я сойду, это было решено/
В своей синей шляпе/
Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька/
Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька/
Первая ступенька, вторая/
Я остановился не из-за того, что я увидел/
Из-за того, чего я не увидел/
Можешь понять это, брат? из-за того, чего я не увидел… я искал это, но во всем бесконечном городе этого не было, – было все, кроме/
Было все/
Но там не было края. То, чего я не увидел, – где все это кончается. Края.
Вот, к примеру, рояль. Клавиши начинаются. Клавиши кончаются. Ты знаешь, что их восемьдесят восемь, и никто тебя в этом не разубедит. Они-то не бесконечны. Ты бесконечен, и бесконечна та музыка, которую ты можешь извлекать из клавиш. Их восемьдесят восемь. Ты бесконечен. Это мне нравится. С этим можно жить. Но если ты/
Но если я спускаюсь по этой лесенке и передо мной/
Но если я спускаюсь по этой лесенке и передо мной разворачивается клавиатура из миллионов клавиш, миллионов и миллиардов/
Миллионы и миллиарды клавиш, и нет им конца, и это истинная правда, что нет им конца и эта клавиатура бесконечна/
Если эта клавиатура бесконечна, тогда/
На этой клавиатуре нет музыки, которую ты можешь играть. Ты ошибся местом: это рояль, на котором играет Бог/
О господи, но ты же видел там улицы?/
Только их я и видел, тысячи улиц, как вы там умудряетесь выбрать только одну/
Выбрать одну женщину/
Один дом, один клочок земли, который принадлежит только вам, один пейзаж, чтобы им любоваться, один путь к смерти/
Весь этот мир/
Этот мир вокруг тебя, и ты сам не знаешь, где он заканчивается/
И сколько его еще/
И вам никогда не бывает страшно, всем вам, – что у вас может крыша поехать при одной только мысли об этой громаде, – при одной только мысли? О жизни…/
Я родился на этом корабле. И здесь я видел мир, но каждый раз это были две тысячи человек. И желания тоже здесь были, но лишь те, что могут возникнуть на расстоянии между носом и кормой. И можно было выливать свое счастье на клавиатуре рояля, которая не была бесконечной.
Я это понял. Земля – это корабль, слишком большой для меня. Это слишком долгое путешествие. Это слишком красивая женщина. Это слишком сильный аромат. Это музыка, которую я не умею играть. Простите меня. Но я не спущусь. Позвольте мне вернуться назад.