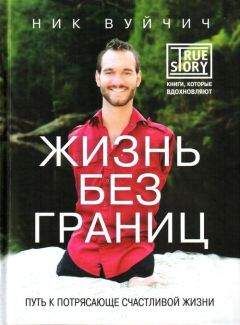Филипп Делерм - Тротуар под солнцем
Все это колдовство занимает едва ли несколько секунд, но вносит в отношения со строптивой дверью нечто чувственное. Пытаясь сладить с изъяном, обращаешься с ней, как с живым существом.
Попутчица
Наш дом. Спереди он похож на английский пансион, а сзади – на ирландскую ферму. За многие годы накопились целые культурные слои всего, что читалось в этом жилище и чем оно украшалось, вроде грошовых картинок, которые когда-то кому-то приглянулись на толкучке. Всюду книги: в шкафах, на низких столиках, просто стопками на полу. Дуболистная гортензия в саду разрослась в целое дерево, а у старой айвы раскололся ствол, но раскидистых веток, образующих зеленую беседку, не стало меньше. В глубине – сараи, маленькая эстрада. Иной раз собираются вечером друзья, ходят, вживаются в дом и сад и чувствуют что-то такое, чему лучше бы немо оседать на дне их душ, но молчать не принято, и они говорят. Беседа получается стыдливо принужденной, все понемножку пьют, все смеются.
А иногда приезжает на недельку погостить моя старая, очень старая мама. Не так уж много мы разговариваем, просто живем рядом с ней, рисуем, пишем, проверяем тетрадки, и ей это нравится. Окунаться в нашу жизнь, не чувствовать себя обузой. Она может часами неподвижно сидеть и читать, или разглядывать афиши на стенах, или прогуливаться по саду шаркающей, медленной – из-за артроза в коленках, а кажется, от робкой радости – походкой. Едва касается поверхности, но проникает в суть. Мама делает то, чего от других, даже близких друзей не добьешься: молчит и наслаждается мелочами.
А дому только этого и надо. Ну, наконец нашелся кто-то, кто по-настоящему читает, по-настоящему смотрит, оценивает по достоинству все, что тут сохранилось, следы не канувших в забвенье дней и даже ритмы нашего сегодня. Понятно, не всегда мы что-то пишем и корпим над тетрадками – в промежутках зовем маму к чаю, болтаем. Иной раз везем погулять в парк при аббатстве Бек-Эллуин. С тех пор как ей стало трудно ходить, она полюбила разглядывать пейзаж из окна автомобиля. Правда, возвращаемся мы рано – завтра к восьми в школу, и надо еще подготовить три урока. Мартина разводит в камине огонь, а мама садится в кресло с книжкой Жака Реда и время от времени посматривает на пляшущие язычки пламени. Она всегда появлялась в нашей жизни как временная попутчица. И теперь, когда ее больше нет, дом о ней вспоминает.
Дома
В углу столовой отодрался край обоев. Хорошо бы покрасить ограду. Надо что-то делать с книжными залежами – некоторые стопки-башни достигли такой высоты, что грозят обрушиться, когда по улице проезжает грузовик. Да еще этот никому не нужный гараж – у него уже доски отваливаются, – когда я наконец решусь переделать его в домик для гостей? Но даже в этих легких угрызениях совести из-за того, что столько лет малодушно откладываешь дела, есть что-то приятное.
Не затем ли я уезжал, чтобы по возвращении острее почувствовать себя дома? Сообщения на автоответчике прослушаю позже. Того, что осталось от дорожного обеда, вполне хватит на ужин. Занятия в школе только завтра, и письма-газеты с почты заберу только завтра. Главное – не включать телевизор. Поброжу тихонько по комнатам. Чувство дома складывается из множества мелочей. Все одно к одному: то, как скрипнула дверь в гостиную и как бесшумно открылась дверь в спальню, как затрещала половица слева от шкафа, поперхнулся сливной механизм. И влажный запах, который нелегко определить, да и к чему стараться раскладывать его на элементы – этой влажностью дом наполняется каждый год к концу лета. Надо просто открыть окна в сад, включить на малый жар отопление, чтобы разогретый дух отцветающих роз и первых георгинов и космей перемешался с острой затхлостью бумажных трофеев, выуженных на развале у букинистов. Толстая подшивка «Нувель ревю Франсез», должно быть, долго провалялась где-нибудь на чердаке, а потом еще попала под дождь. Ну да, нельзя сказать, что пахнет так уж хорошо, да, далеко не все работает как надо – замок на этот раз открылся еле-еле. Но даже и приятно ощущать, что дом мне неподвластен, что он меня пускает внутрь, но распоряжается собою сам. Хотя… Неисправный замок дает мне доступ в мир, где всем кварталом правила мадам Портуа – мальчишкой я бегал к ней за молоком. И в этом что-то есть… Хожу по комнатам и улыбаюсь. Отопление можно выключить – тесто уже подошло. Все по рецепту, я пропекся в меру. Я дома.
Наконец-то!
Уф! Вот и настал этот миг… Садишься в кресло и испускаешь вздох из глубины души – в нем изливается наружу вся усталость дня. Удовольствие будет потом, а сначала вот это: облегчение после всех неурядиц, накладок, томительного ожидания и мелкого притворства в угоду правилам общественной игры. Да, все это уносит вздох. И наконец-то чувствуешь себя самим собой и в согласии с собственным телом, оно сначала расправляется, но тут же начинает выгибаться, пристраиваться, чтобы и расслабиться, и опереться, найти и мягкость, и упругость. Затылок ерзает туда-сюда, прежде чем откинуться и замереть в блаженстве. Спина то напрягается, то обмякает, стараясь повторить рельеф, который обещает ей комфорт.
В постели тело тает, исчезает, забывается. В кресле все не так просто: тут хочется и полностью расслабиться, и в то же время не раствориться. Не отречься от себя. Наоборот, пробуешь так и сяк, обживаешь пространство. Блаженство не бежит от реальности, оно ее обустраивает.
Ты никуда не делся, ты все в том же потоке жизни, только на минутку бросил якорь в тихой заводи. Что выше по течению, то миновало. А дальше – что же, ты не прочь! Конечно, ты готов выслушать все, что тебе сразу начинают говорить. Но прежде пусть продлится крошечная пауза, когда еще можно не слушать. Ты киваешь, мигаешь и по возможности оттягиваешь тот момент, когда придется самому заговорить. А между тем отдаешься немому диалогу тела с креслом. Миг – и мозг заработает снова и заглушит это сладкое чувство. Так лови же втихую драгоценные пылинки исчезающего времени. Гармония и умиротворенность наступают сразу после вздоха – ты погрузился в мягкий кокон. Ни мыслей, ни желаний – полная нирвана. Вытяни ноги, скрести их, чуть-чуть пошевелись, чтобы острей распробовать теплую негу оцепенения, ты в безопасности, покое, ты здесь и далеко, тебя обтекают податливые волны времени-пространства.
Наконец-то!
* * *Долгое время я разбирал с пятиклашками стихотворение, которое называется «Ром-баба и печенье». Его смешно читать, а еще забавнее декламировать вслух. Поощряя детишек то дрябло раскисать, изображая «бесстыжую ром-бабу на тарелке, что напивается хмельным сиропом». Или съеживаться, крепко поджав губы в роли печеньиц, которые «глядят на пьяницу, дрожа от гнева и стыда». Кто это сочинил, я не знал, а потому писал внизу листочка: «Неизвестный автор».
Многие подозревали, что стихи придумал я сам, – лестное предположение. Но как-то раз одна знакомая подарила мне старинный том в обложке с зелеными разводами. На корешке, как положено, золотыми буквами, было написано «Басни» и имя автора: Франк-Ноэн. Там, между «Козлом, надумавшим побриться» и «Жуками-модниками», на странице 122 я и нашел «Ром-бабу и печенье». «Отпечатано в «Современной типографии» – Монруж (деп. Сена), улица Шатийон, 177 – 26 мая 1931 года».
Кроме разбора и комического чтения вслух, в классе каждый раз разыгрывалась еще одна, самая интересная, часть программы: ребята начинали спорить о том, что никаким боком не входило в школьную программу, но у них вызывало бурные – иной раз слишком бурные – эмоции. Понятно, что всеобщая симпатия склонялась на сторону ром-бабы, которая нежилась себе в сиропе в свое удовольствие. Но каждому, кто хотел чего-то достигнуть в будущем, невозможно было хоть сколько-нибудь не согласиться с позицией печенья: «Так и проживешь размазней до пятидесяти лет!»
Больше всего из этих дебатов мне запомнился толстенький Николя. Рыжий, веснушчатый, с хитрющими глазами. Махнув рукой на скучные – по крайней мере, для него – рассуждения о сравнительных достоинствах ром-бабы и печенья, он задорно, звенящим голосом крикнул: «Я, месье, процентов на восемьдесят ром-баба!»
Сладость от горечи
Читать горьких пессимистов, вроде Леото, Ренара, Чорана, Песоа, очень приятно. Они с таким презрением относятся к себе самим, к другим людям и ко всему фарсу бытия. И пишут так метко, так остро, с таким словесным изяществом, что невозможно усомниться – это истинная правда. С ними ты в полной безопасности. Раз все так плохо, хуже не будет. Они клеймят человеческое лицемерие, обман и суетность наших чувств. Однако не перестают делиться мыслями о мире, и получается забавно: проект мироздания никуда не годится, но его продолжают вычерчивать. Они, наверное, верят в словесность, раз, ни во что не веря, все же говорят. Противоречие, в котором их нетрудно уличить. Они считают, что не стоит оставаться в этом мире, однако же остаются.