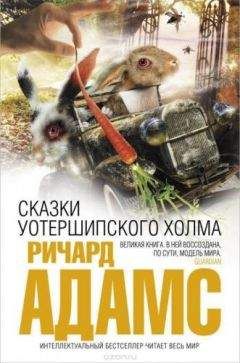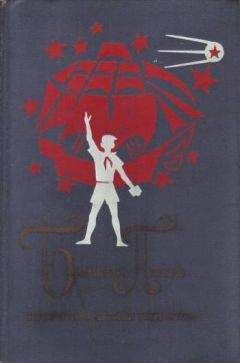Алексей Иванников - Расследование
После резкого выпада он успокоился и сидел свободнее и расслабленнее: некоторое моё сочувствие он принял благосклонно и теперь выжидал следующей реакции. Я начал осознавать ситуацию: оставленный без работы и всего, к чему привык, режиссёр жаловался на нечестность судьбы, выкинувшей его на обочину жизни, где он – в прошлом преуспевавший и знаменитый – вынуждено прозябал, подбирая жалкие крохи и перебиваясь случайными подачками; мой визит мог только раздразнить его и вызвать бурю: бурю негодования и боли, палящей ненависти и неутихающей ни на секунду злобы, к чему мне и следовало готовиться. Хотя и это было мне уже безразлично.
«А как сейчас ваши дела?» – Лучше бы я не спрашивал: неожиданно он приподнялся с кресла, и я увидел перекошенное лицо совсем рядом, и в самый последний момент мне удалось перехватить его руки, которыми он собирался схватить меня за куртку. – «Мои дела?! Да какие у меня могут быть дела? Дела – это у банкиров дела: по покупке заводов, например, или их распродаже; я же занимаюсь делишками.» – Он вдруг хихикнул и так же резко вернулся в кресло. – «Вы со мной согласны? Вот распиливают они – на пару с кем-нибудь, например – некое предприятие – неважно какое, заводишко там или магазин – и пока пила туда-сюда ходит, то некоторых – случайно подвернувшихся – вжик на две части-то; а как же вы хотите: без жертв ни-ни, без них ни одно дело не обходится. И нельзя сказать, кстати, что жертвы-то всё мелкие и ничтожные: среди них и такие попадаются, что и поважнее пильщиков: в конечном итоге. И пока его – таракана этакого – на части раздирают – он ведь тоже муки испытывает.» – Он расслабился и опустил голову, и я понял его: он рассказывал о собственных лишениях и трудностях, наверняка многочисленных и тяжких, в надежде на сочувствие и поддержку; только мне нечего было предложить ему: я и сам теперь оказывался слаб и беззащитен, и неизвестно ещё, чьё положение выглядело неприятнее: он по крайней мере числился на работе, мне же следовало теперь найти её, и я вряд ли мог рассчитывать на чью бы то ни было помощь и поддержку.
«И давно у вас такая ситуация?» – Он всколыхнулся. – «Пять лет. И знаете: когда вы позвонили, то я подумал: вот и вспомнили старика, не забыли ещё окончательно. Так что разочаровали вы меня.» – Он заметно надулся. – «И ради чего вы сюда пришли: ради этого надутого актёришки, который только и умел пускать пыль в глаза и крутить головы вертихвосткам?» – «Он много что умел.» – «Ага, разумеется! Жрать водку – или же коньяк, орать потом песни – разумеется, в компании таких же охламонов и бездельников. Что же касается ролей: он был просто халтурщиком!» – Режиссёр выплюнул это почти с гордостью, слившейся со злобой и отчаянием: независимо от того – насколько он говорил правду – сейчас ведь не его возносили на высочайший пьедестал, откуда он мог бы снисходительно озирать окружающую местность, наполненную тоской и слабостью; его же ждала иная участь, с которой он никак не соглашался примириться и отчаянно огрызался теперь, показывая всего лишь жалкие остатки былой силы и могущества.
«Но всё-таки нельзя же отрицать, что он оставил след в искусстве: и яркий след.» – «Ну вы даёте! Как вы – профан в нашем деле – смеете утверждать подобные нелепости? Да если взять любой мой фильм – я за них по крайней мере ручаюсь – то в каждом найдутся работы: куда сильнее и значительнее! Но ведь почему-то вот никто не вспоминает о их создателях – да гори они все ясным пламенем! – а вокруг Р. такая суета и шумиха. А вам не кажется, что тут дело нечисто?» – Он хитро сощурился и даже почти улыбнулся. – «Да дело-то в том, что это кому-то надо: он кому-то очень нужен, именно такой, каким его представляют некие деятели. И все, кто занимается тем же: льют воду на ту же мельницу.» – Уверенный в правоте он пронзительно смотрел в мою сторону, однако я не реагировал на очевидную провокацию: мне не хотелось убеждать его – как и кого-то ещё – в своей невиновности или чистоте намерений: я больше не собирался участвовать в тяжёлой нелепой борьбе, развернувшейся вокруг дорогого прежде имени, и я не стал реагировать на выпад.
«И мы не будем молчать: пускай все знают об этом! А я – как последний солдат умирающего искусства – именно так! – даже когда мой “Варяг» почти полностью уйдёт под воду – да-да! – даже тогда буду кричать во весь голос, в слабой надежде, что меня услышат: это всё жульничество и обман!» – В запале он привстал с кресла, и я больше не смог выдержать: я поднялся и толкнул дверь, повернувшуюся тяжело и неохотно. В удивлении он замолчал, моргая часто и растерянно, и как бы даже бросился в мою сторону, пытаясь удержать: я быстро простился и исчез, оставив его в одиночестве извергать проклятия и угрозы, наверняка никому больше не страшные и не могущие ни на что оказать влияние; он подтверждал уже известное, не добавляя однако ничего нового и содержательного: но теперь уже я не рвался к истине и не жаждал правды, столь горестной и неудобной: она была почти вся перед глазами – жалкая, нищая и убогая – но мне не хотелось добираться до самых последних глубин: я догадывался, что ждёт там, и такое знание было противно и омерзительно.
По дороге домой мне становилось лучше и спокойнее: почти до конца исполнил я свой долг, оказавшийся столь тягостным и вызвавший последствия, с которыми предстояло ещё разбираться; почти наверняка мой визит не остался незамеченным, и можно было ждать ответной реакции. Я надеялся, что противники не пойдут дальше и остановятся: совершенно не хотелось больше попадать под удар – бьющий прицельно и болезненно – всего лишь за желание правды, не прикрытой от всех плотной непроницаемой завесой. Их содействие уже не требовалось: я сам с радостью отдал бы обнаруженное, вот только вряд ли они захотели бы приобщить находки к общему хранилищу: они взрывали фундамент их авторитета и благополучия, созданный такими трудами, так что стоило серьёзно подумать – а что делать с ними дальше? И уж наверняка моя помощь не могла вызвать восторга и восхищения: после состоявшихся стычек и бесед, стоивших и мне, и остальным слишком много сил и нервов.
Было ещё светло, и я не так боялся нападения: это уже выглядело бы слишком нагло и открыто. Я спокойно добрался до квартиры и забаррикадировался: сегодня уже я не собирался никуда выходить: бессмысленность того, чем я занимался последние дни, наконец подействовала, повлияв – вместе с обнаруженными результатами – на желание, так сочно и подробно выплеснутое ещё вчера: высказав его так явно я нанёс по нему – сам не ожидая – небывалой силы удар; оно никло и слабело, подтачивалось всеми трудностями и препятствиями, чьим преодолением мне пришлось заниматься. Мне не хотелось больше барахтаться в вязкой жиже, обнажившейся там, где я рассчитывал найти совсем иное – скопление мудрости и красоты, снабжённой также многочисленными талантами. Перебирая детали и подробности я тихо сидел за столом на кухне: скоро должен был вскипеть чай, и тогда предстояло решить – а что делать дальше? Я приготовил чашку: оставалось совсем чуть-чуть, и тут зазвонил телефон, обрывая мысли и желания. Я догадывался, кто это: наглый тип не мог не отреагировать на последний визит, но теперь уже я был тих и спокоен. – «Да: я вас слушаю.» – «Ты как: намёки понимаешь? Или чтобы ты угомонился, нужны более серьёзные средства?» – «Всё: я выхожу из игры.» – «Как-как? Ну-ка повтори.» – «Я больше не собираюсь ни с кем встречаться. И делать книгу тоже.» – Умиротворённо и вежливо говорил я сейчас, и он почувствовал перемену; он молчал, ожидая, возможно, чего-то ещё, но я не собирался продолжать. – «Простите: я занят.» – Положив трубку я выдернул штепсель из розетки, отсоединив телефон от сети: ни к чему мне были сейчас собеседники, от общения с которыми я успел устать за прошедшие дни. Чай как раз вскипел, и я заварил покрепче, сразу же приступив к делу: с антресолей я достал оцинкованный таз – так казалось безопаснее – и положил его посередине кухни. Сначала я принёс архив: старые газетные и журнальные статьи легко воспламенялись и горели, унося с дымом память о былом, разбавленную откровенной ложью и мелкими подтасовками мелких людишек, сварганивших их непонятно зачем и почему: ложь не могла пойти им – почти всем! – на пользу, а правды они боялись или не хотели знать её, ослеплённые и обманутые теми, кто определял их судьбу и решал за них – а что же им делать и как жить; да они и сами не жаждали правды: так казалось легче и проще – выполнять чужие приказы и указания – потому что потом следовало главное: награждение отличившихся и наказание тех, кто посмел не согласиться и пошёл своей дорогой; всё это становилось теперь дымом и пеплом, подводя промежуточный итог моей жизни: я ведь справился и дошёл до последних глубин, и не моя вина, что пришлось отступить – я ведь не сдался на милость победителя и не продался – а сколько человек устояли бы на моём месте и выдержали бы до конца? и самое главное – избавился от жажды и непонятного желания: оно не точило больше, расползаясь болезненным наростом и мешая жить и работать дальше. Я был теперь спокоен и сосредоточен: достаточно свободно я смог бы найти работу в независимой – разумеется, весьма относительно – прессе: вряд ли преследование было бы продолжено – для него пропали основания – и я не исключал даже благоприятнейшего выхода: возвращения на прежнюю работу.